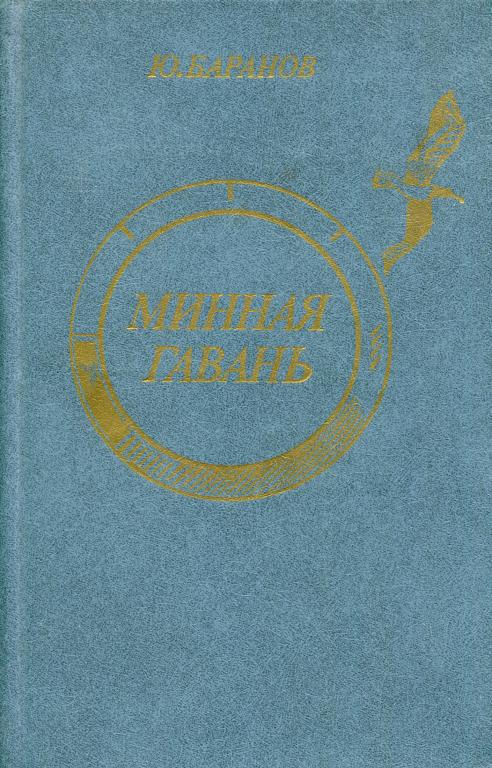хотелось курить, но это было исключено. Лодка только что погрузилась и шла на рабочей глубине. Подсунув ладони под голову, он глядел в подволок, мучаясь от непонятной тупой боли, разливавшейся по всему телу. Где эта боль и что именно болит, определить было невозможно. Ему хотелось заснуть, избавиться хоть на час от тяжелых своих мыслей, но сон никак не приходил. Он думал о том, что и в безвыходном положении должен быть какой-то выход. Вот если бы не эта боль, которая мешает сосредоточиться…
Дверь каюты приоткрылась.
— Не спите, Владимир Егорович? — тихо спросили из коридора.
— Нет, — отозвался Линьков.
Дверь отодвинулась шире, в каюту вошел Юрков.
— Мне тоже вот не спится, — сказал командир, подворачивая суконное одеяло и присаживаясь на край дивана. — О чем я подумал… Может, вас на берег перевести? Я слышал, освободилось место начальника торпедной мастерской.
Владимир нервно встрепенулся, приподнимаясь.
— Разве я никудышный моряк?..
Командир укоризненно посмотрел на него:
— Я не хотел вас обидеть. Но разве есть у вас такое право — думать только о себе?
Линьков откинулся на подушку и закрыл глаза.
— Ни о чем не хочу думать, устал…
— Владимир Егорович, — сказал Юрков жестко, — вы даже не представляете, как мне за такие слова хочется поставить вас по стойке «смирно», как меня когда-то поставил мой командир. Или вы думаете, что никто не был на вашем месте? В войну и мать мою, и жену, и годовалого сынишку… всех — одной бомбой. А сам я был моложе вас, только-только из училища вышел.
— Война — это совсем другое дело. Она для всех беда. А беду вместе переносить — не то что в одиночку. Верите ли, ничего так не хотел, как иметь семью. Она была…
— Это жизнь, Владимир Егорович. Ни беды, ни радости постоянными не бывают. Помните доброе русское слово «превозмочь». Вы пересилите себя, я знаю. У вас есть цель, ради нее стоит жить. Настанет время, и вы заново начнете для себя открывать мир: то ли это будет музыка, то ли цветы, а может, первый смех вашего ребенка… И судьба не покажется вам такой жестокой. Вы знаете, Линьков, что значит верить в невозможное?
Владимир молчал.
— Так вот, — понизив голос, продолжал Юрков с какой-то печальной и даже виноватой улыбкой, будто собираясь сказать нечто такое, о чем давно еще поклялся молчать, — было это зимой сорок второго в Ленинграде. После ранения собирался я уже вернуться из госпиталя в часть. И каждый день какая-то неизъяснимая сила подталкивала меня пойти на Васильевский. Вы понимаете, и страшно, и необходимо было еще раз увидеть то место, где я родился, вырос, жил. А на что смотреть? От всего дома в шесть этажей уцелели одни голые стены. И посреди этих стен — провал, груда кирпича и щебня. Но где-то под этими обломками, которые тогда некому было разбирать, возможно, лежали они… Вернее, то, что осталось от них. Я это чувствовал. Помню, давал зарок: со дня их гибели никогда больше на это страшное место не ходить. И не выдержал. Пошел. А что, думаю, если они в подвале во время налета укрылись? И не верил, и надеялся, пока шел. Но как посмотрел, еще раз убедился, что чудес не бывает, если тяжелая фугасная бомба разрывается в нижних этажах здания… Повернул назад. И снова не мог избавиться от мысли, что живы они. Что за вздор! Уж не с ума ли схожу?.. Не помню, как добрался до канала Грибоедова. Перешел мостик и вижу — повалилась на снег у самых перил закутанная в платок старуха. Голодный обморок — в ту зиму это считалось обычным явлением. Поднял ее на ноги, спросил, где живет. Кивнула бабка на соседний дом. Пришлось проводить. Никогда не видел я такого холодного неуютного жилья, каким была комната, куда мы вошли. Обои содраны, в полу нет ни одной паркетины, голая железная кровать и стол посреди. Даже присесть не на что было. В печурке сгорело, вероятно, все, что может гореть. И что меня больше всего удивило, это горшочек, из которого торчал корявый пруток — нечто вроде засохшего фикуса; стоит посреди стола как символ того, что не все еще сожжено… Вот моя бабка совсем отдышалась, сняла с головы платок, а ей, вижу, на самом деле не больше тридцати. Настолько исхудала, что только кожа да кости — настоящий скелет, если бы не ее большие, умные глаза. Была в них удивительная, словно утверждавшаяся через тысячи смертей жажда жизни. И проявлялась она, эта жажда, весьма своеобразно. Первым делом, как передохнула, налила эта женщина из чайника в кружку воды. Отхлебнула глоток, согрела во рту и… полила в горшочке землю. И так она повторила несколько раз. Я и говорю ей: зачем вы поливаете фикус, он же давно засох? Нет, говорит, это инжир: зимой он всегда без листьев, а как весна придет — расцветает. Куда там, думаю, расцветать ему после такого собачьего холода в комнате. Но промолчал. Скажи ей об этом — все равно бы не поверила. И ни я, ни она с ума не сходили, когда верили тому, чего не могло быть. Ленинградке той необходимо было о ком-то или о чем-то заботиться больше, чем о самой себе. Вернулся я на корабль, и с тех пор мне тоже есть о ком и о чем заботиться больше, чем о самом себе. А вы как, Владимир Егорович, полагаете?
— Хорошо, — согласился Владимир, — я подумаю о том, что вы сказали…
Командир вышел, осторожно задвинув за собой скрипящую дверь. Владимир не гасил свет и долго еще лежал с открытыми глазами. Снова, как в тумане, всплывали несвязные обрывки мыслей, усиливалась в душе боль, подступала тоска. Когда Николай Петрович говорил, Владимиру было не то чтобы легче, но просто не так одиноко. Теперь он не мог вспомнить, о чем размышлял до прихода к нему Николая Петровича. Те мысли как бы распались на отдельные фразы и ничего не значили сами по себе. Смерть Лиды, рождение ребенка, срочный выход в море — все смешалось. Но ему казалось, что стоит лишь восстановить в памяти утраченные связи меж теми фразами, как он уймет боль души, узнает тайну невысказанных Лидой слов.