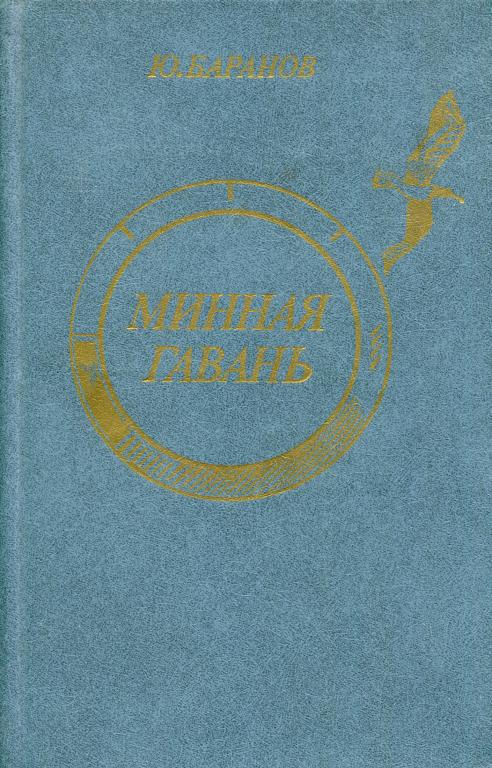Владимир полагал, что только в определенности мыслей найдет покой, избавится, наконец, от тоски своей, как от проклятия. Он желал и не мог сосредоточиться.
Задремать удалось лишь под утро. И вот уже вестовой стучит в дверь каюты. Пора вставать.
Утро под водой всегда относительно. Его определяют лишь по часам. Просыпаясь, никто в отсеке не ощущает той беззаботной, легкой свежести во всем теле, какая бывает лишь от солнечных лучей. Но жизнь под водой, несмотря на все условности и ограничения Нептунова царства, берет свое. Здесь вполне привыкают к тому, что солнечный свет заменен электрическим, а первозданной чистоты воздух — регенерированным. Как и на земле, подводники резво вскакивают, потягиваются, по-флотски задорно шутят, толкаются возле умывальника, с хохотом брызгают друг на друга водой, растирают полотенцами крепкие спины, плечи и спешат к завтраку.
А подводный корабль тем временем идет своим курсом и на заданной глубине. Гудят электродвигатели, работают механизмы, приборы, заступает и сменяется вахта.
Это нескончаемое движение лодки со множеством ее отсеков и переходов представлялось Линькову длинным коридором в океанской бездне, по которому всем надлежало, не переставая, идти в ногу. И он шел вместе со всеми. Но вот споткнулся, пропустил вперед себя людей и растерянно озирается по сторонам, как бы отступив от своего главного пути и заблудившись в лабиринте неведомых тоннелей и переходов подводного мира. Он механически делал то же, что и все: умывался, ел, говорил. И тем не менее продолжал отсутствовать, как безнадежно опоздавший с берега юнга, без которого корабль вышел в море. Казалось, что среди тысяч людских судеб не сыщется положения худшего, чем у него. Единственное, что было бы еще более неприятно, как он думал, — это неизбежные соболезнования друзей. И хотя так издавна принято поступать из вежливости, если не из сострадания — Владимир это понимал, — ему не хотелось притворяться, как он тронут чьим-то вниманием. Среди равных он во всем хотел оставаться равным. И всеми силами души ему хотелось превозмочь, пересилить себя, чтобы никому не давать повода ни к состраданию, ни к жалости.
Прежде чем войти в первый отсек, Линьков крепко прикусил губу. Физическая боль вернула его к действительности. Выждав мгновение, отворил тугую крышку переборочного лаза и просунулся через отверстие в носовое помещение лодки. Старшина Чесноков, который у торпедных аппаратов что-то рассказывал окружившим его матросам, скомандовал «Внимание». Владимир окинул взглядом неярко освещенный отсек, напоминавший длинный тоннель, по сторонам которого в три яруса протянулись подвешенные на цепях матросские койки, и пошел навстречу ожидавшим его людям…
— Чем занимаетесь, старшина? — спросил Владимир негромким, хрипловатым голосом, который даже ему самому показался чужим.
— Решил их по устройству лодки погонять, — старшина кивнул на моряков, — механик завтра будет принимать зачеты по живучести.
— Дело нужное, — согласился Линьков. — И вот еще что… — Он потер небритую щеку, с трудом сосредоточиваясь, чтобы не глядеть на старшину пустым, отсутствующим взглядом. — Как закончите, я сам немного поспроша́ю, для верности.
— Есть, товарищ капитан-лейтенант, — ответил старшина, как всегда, спокойно, весело и просто. — Мы, собственно, все готовы, только вот Гущин…
— А что Гущин?
— Первый раз будет сдавать.
— Что скажете? — Линьков повернулся к Гущину.
Матрос застенчиво и мягко улыбнулся, пожав плечами, словно давая понять, что он тут ни при чем. Как судьбе его и начальству будет угодно, как повезет…
Линькова едва не передернуло от этой молчаливой скромности. И снова явилось против Гущина раздражение, вспомнил о тех самых роковых минутах, которых не хватило, чтобы услышать прощальные слова жены.
— Пробоина справа по борту, — сказал Линьков, недобро глядя на Гущина и показывая ему то место, где эта пробоина могла быть, — приступайте.
— Вот здесь? — наивно переспросил Сенечка, как бы удивляясь, действительно ли в таком неудобном для него месте может оказаться повреждение корпуса.
Линьков про себя выругался.
— Время! — напомнил старшина.
Маленький, круглый Сенечка сорвался с места. Нырнув головой в узкий промежуток менаду верхней и нижней койками, так что видны остались его оттопыренный зад и короткие ноги, он принялся налаживать между шпангоутами струбцину. Старшина придирчиво глядел на секундомер, который по-тренерски, будто священный амулет, всегда носил при себе на крепкой, жилистой шее, пряча его на длинном шелковом шнурке между робой и тельняшкой.
— Готово! — радостно крикнул Сенечка, все еще барахтаясь между койками.
— Не «готово», а как? — удовлетворенно придрался старшина, щелкнув кнопкой секундомера.
Сенечка выбрался из своего закутка, счастливо улыбнулся пухлыми губами и доложил, как положено по уставу:
— Пробоина справа по борту заделана. Течи нет.
— Уложился, — голосом неподкупного арбитра сообщил Чесноков Гущину, — в запасе имеешь две секунды.
Матрос в ожидании полагающейся похвалы поглядел на Линькова. Но тот нахмурился еще больше.
— Доложите-ка, Гущин, ваши обязанности по боевому расписанию.
— Так. По боевому? — не утерпев, переспросил-таки Сенечка и стал решительно перечислять свои обязанности.
— Гущин, — рассерженно перебил его Линьков, — когда вы перестанете переспрашивать? Надоело! Поставлен вопрос — отвечайте. И никаких…
Сенечка обиделся и продолжал говорить не так бойко и уверенно, как начал.
— Точнее, точнее, — все поправлял его Линьков, хотя в душе чувствовал, что не надо этого делать: матрос отвечал неплохо.
Вот Сенечка взглянул исподлобья на Линькова. Они встретились глазами, и матрос замолчал.
— Гущин, у тебя что, бензин вышел? — удивился старшина.
Сенечка, опустив голову, разглядывал носки своих до блеска начищенных ботинок.
Линьков почувствовал, как в нем начинает закипать нестерпимая беспричинная злоба не то на Гущина, не то на кого-то еще, кто ему все время досаждал.
«Да что же ты, балда, делаешь! — попытался Линьков эту злость обратить на самого себя. — У тебя же все мысли на морде написаны. Ищешь козла отпущения, будто и впрямь в твоих бедах кто-то виноват…»
— Не пойму, что с тобой такое? — сказал Чесноков Гущину. — Ты же все это знаешь, как дорогу от койки до гальюна.
Взявшись рукой за пилотку и оттопырив локоть, старшина изобразил на