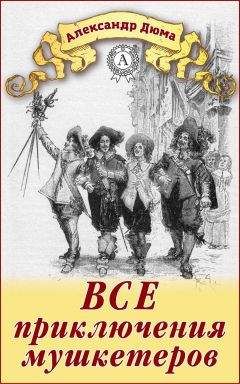Она зачерпнула кружку молока и поставила на керосинку. А когда несла молоко в погреб, долила в ведерко воды из стоявшей в сенях кадки. Сроду она так не делала, да ведь иначе кому-то из жильцов не хватит.
Когда шла назад, увидела на крыльце Степана. Он стоял в своем обычном поношенном ватном костюме, кривоносых ботинках, в кепке со сломанным козырьком. И нетребовательный же Степан! Другой на его месте давно бы новую одежду справил, а он ходит в своем обдергайчике, и горюшка ему мало. От этих мыслей забылась обида, к ней сошли нежность и доверие.
— Знаешь, Степа, чего я надумала, — сказала Марья Васильевна, тронув мужа за рукав. — Не вступить ли мне в колхоз?
— Еще чего! Мы же рабочий класс!
— Это ты рабочий класс. А я ни богу свечка, ни черту кочерга. Вон у Беляковых или Прошиных мужья на торфу работают, а жены в колхозе. Или вон Мухины. Варька до прошлого года птицефермой заведовала.
Степан тихо улыбнулся.
— Когда только ты, мать, угомонишься? — сказал он ласково. — Этакую махину тащишь, и все тебе мало. Так и надорваться можно!
— Зачем надрываться-то? — засмеялась Марья Васильевна. — Нешто Нюрка Белякова или Глашка Прошина надрываются? Как ни посмотришь, все в поселке халдырят. А коровки их с колхозным стадом пасутся…
— Вон что!.. — улыбка Степана погасла.
— Ну да! Как ни бьюсь я с Пеструхой, ничего не поделаю. На колхозной травушке да на колхозном сенце она враз в полную силу войдет. Надо же и детям молочка попить, — добавила она для Степана.
Степан поднял голову, и Марья Васильевна чуть отшатнулась: такое было у него тяжелое, угрюмое лицо.
— Занимайся домашностью, бог с тобой, а колхоз не трожь. Поняла?
— Да ты что?..
— Нечего нашу грязь по миру размазывать.
«Грязь? — вскричало в ней. — У меня все чисто, это ты, ты грязный!» Но она ничего не сказала, и Степан медленно пошел со двора.
Марья Васильевна стояла, обмерев, недвижно, как трава в затишье, затем вспомнила, что сбежит молоко, и кинулась в дом. Молоко наполовину выкипело, она подсыпала в остаток сахарного песку и отнесла Витьке.
«Остановится Степан с Парамонихой или мимо пройдет? Неужто и после такого нашего разговора вспомнится ему о вдове?..»
Марья Васильевна почти бегом устремилась на улицу. Они стояли по сторонам прочесанного Степаном тугого березового плетня и разговаривали. Заходящее солнце освещало их теплым, красноватым светом, и белое платье Парамонихи стало розовым. Марья Васильевна неотрывно глядела на них, а затем их фигуры стали будто таять в багряном воздухе, растворилось и багрянце и розовое платье Парамонихи, и над плетнем осталось лишь ее темноглазое лицо под темной копной словно ветром растревоженных волос; по плечи заволокло и Степана, лишь резкий очерк смуглой скулы да мятая кепка оставались видимы, а вот уже не стало и плетня…
«Что это со мной? — испуганно подумала Марья Васильевна, — в глазах ли мутится, в голове?»
Это с реки наплывал туман густыми, окрашенными в багрец клубами…
В доме уже все спали. Спали Колька с Витькой, спала за ситцевой занавеской Наташа, спали на тюфяках, набитых сеном, археологи, торфяники, землемеры, на сеновале спали охотники и рыболовы, спали куры на насесте и Пеструха в хлеву. Не спала только Марья Васильевна. Она управилась с дневными делами и могла бы уже улечься, но знала, что все равно не уснет. Томившая ее обида переросла в темное, глухое ожесточение. Все предали ее. Предал Степан, устранивший себя от всех ее забот и прильнувший к чужому сердцу, предали своим равнодушием дети. Все равно она от своего не отступится, докажет им, на что готова пойти ради семьи…
Марья Васильевна прислушалась к тишине дома. Из горницы доносилось дыхание спящих, порой слышался чей-то глухой ночной вздох, а то легкий стон. Все спят первым, самым глубоким сном. Окно, глядевшее из кухни на огород, казалось заклеенным черной бумагой. Марья Васильевна поднялась и тихо вышла из кухни.
Густой, плотный туман окутал землю. Здесь частенько бывали туманы, но такого она не запомнит. Туман накрыл землю, набился во все впадины, во все щели земли, паутиной облепил кусты смородины, высаженные вдоль избы, вплел свои вязкие нити в плетень, опутал все, что находилось в просторе. Туман брался на ощупь, холодный, скользкий, как банная слизь. Туман поглотил не только зримый образ предметов, он утишил, сместил, почти скрал звуки. Тарахтевший на реке мотор казался далеким, словно за краем света, гудок паровоза, отсигналившего разъезду, прозвучал с неба, а тяжкое дыхание коровы в хлеву доносилось будто из-под земли.
«Трудно будет Степану вслепую вести состав», — тревожно подумалось Марье Васильевне.
Поселок спал, только в стороне избы Парамоновой мутилось пятнышко света, то исчезая в туманной наволочи, то желтовато, мерцающе брезжа. «Не спит, гадюка, на огонек манит!.. А, леший с ней! Парамониха не помеха!»
Неслышно ступая мягкими бахилами, Марья Васильевна прошла в сени, отомкнула маленькую дверцу и вытащила из клети мотор. Прижимая его к груди, быстро прошла к реке. Она так хорошо знала нахоженную семьей тропку, что могла вслепую добраться до берега, но туман заворожил ее и привел ниже, почти к мосткам Парамонихи. На миг ей почудилось, будто на берегу мелькнуло что-то темное, живое, — мелькнуло и сразу стаяло, как возникали и таяли другие сотканные из реющей влаги образы. Чуть обождав, не мелькнет ли снова что живое, она стала пробираться к своему причалу сквозь мокрый ивняк по скользкому, будто омылившемуся глинистому берегу.
Над рекой туман достигал сметанной густоты, не видно было собственных рук, все приходилось делать на ощупь. С трудом отомкнув замок на лодочной цепи, Марья Васильевна навесила мотор и оттолкнулась от берега. Она много раз видела, как Степан заводил мотор, но сама делала это впервые. «А вдруг не выйдет?» — мелькнула мысль, и на миг она почувствовала радостное облегчение. Но вот шнур словно сам дернулся в руку, мотор чихнул раз-другой и заработал ровно и чисто. Лодка стала грудь в грудь с течением, затем понеслась против волны, невидимая во тьме и тумане.
Марье Васильевне казалось, что она плывет не по реке, а по воздуху, сквозь густые, влажно клубящиеся облака. Она не думала о том, что может врезаться в невидимый ей берег, наскочить на мостки, столкнуться с другой лодкой. Она заметила, что оказалась под мостом, лишь ощутив холод его ослизлых свай и угрожающую тяжесть настила над головой, и запоздало пригнулась, когда мост остался уже позади. Постепенно она стала управлять лодкой более осмысленно: теплый ток воздуха, опахивающий ее порой то справа, то слева, шел от берегов, и теперь, чувствуя его, она мгновенно поворачивала лодку в противную сторону.
Туман поголубел, и по нему простерся зеркальный, холодный блеск: взошла луна. Стог сена оказался единственным предметом в просторе, представшем отчетливой, зримой явью, его верхушка с шестом угольно вычернилась в тумане.
Выключив мотор, Марья Васильевна с маху врезала лодку в плоский песчаный берег. Она слышала, что охотники всегда обирают стог понизу, и решила поступить так же. В колхозе решат, что охотники забыли или поленились вернуть сено, которым устилают на ночь днище челноков, и розыска делать не станут.
Толстое, осоковатое сено было мокрым, скользким и тяжелым. Спрессованное собственной тяжестью, оно отдавало лишь мелкие пучки. Тогда, забыв об осторожности, Марья Васильевна развела руки, всем телом привалилась к стогу и, вжавшись в его теплое, будто живое нутро, выхватила из боковины охапку величиной с добрую копенку.
Она кинула сено в лодку и стала приминать его руками и коленями. Всплеск весла, раздавшийся совсем близко, бросил ее на дно лодки. Будто множество маленьких испуганных сердец забилось по всему ее телу.
Снова шлепнуло весло, толкнув лодку волной. Марья Васильевна повернула шею и косо, одним глазом, глянула вверх, в опасность. Но вокруг по-прежнему лишь клубился туман. «Щука!» — решила Марья Васильевна.
На этот раз она не заводила мотора, течение и без того быстро несло лодку назад. Снова дышали теплом невидимые берега, и снова опахнуло гнилостным холодом под невидимым мостом, но вот туман словно уплотнился в длинные космы: она угадала нависшие над рекой ивы у своего причала.
Марья Васильевна вынесла сено на берег, сложила его под ивами и понесла в дом мотор. Ей казалось, что прошли часы, но, войдя в сени и услышав привычное дыхание, храп и ворчбу спящих, поняла, что управилась очень быстро.
Затем она перетащила сено в хлев. Разбуженная Пеструха шумно задышала и потянулась к ней мордой. Марья Васильевна легонько оттолкнула это теплое, живое, мягкое и вдруг, неожиданно для себя самой, по-детски всхлипнула.
А в доме на нее напала странная оторопь. Ей казалось, что она здесь чужая. Любой из постояльцев, спавших на полу и полатях, был тут более своим, чем она, хозяйка. Такой странности на нее еще сроду не находило, она усмехнулась и почувствовала свою усмешку, как боль. В незнакомом, мучительном смятении пробиралась она среди спящих, среди нагромождения накупленных ею вещей, мимо тускло сияющего бельмом экрана телевизора к задернутому ситцевой занавеской углу, где спала Наташа. Она заметила, что скатерка, которой она накрыла телевизор, валяется на тумбочке скомканная, а на ней, будто мертвый, лежит на боку расписной глиняный конь. «Кто-то трогал телевизор. Может, сломал его? Конечно, Витькиных рук дело!..» — устало подумала она и прошла в Наташин угол.