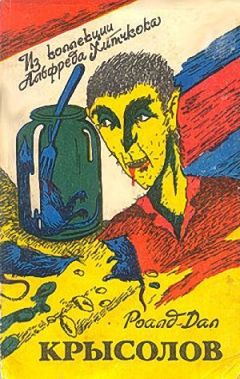Вовсе не желая заниматься саморекламой, я считаю всё же, что вправе заявить о себе как о человеке зрелого ума, уравновешенном и интеллигентном.
Я много путешествовал. Прочёл всё, что полагается.
Умею изъясняться на древнегреческом и латыни. Разбираюсь в науках. Никогда не ввязываюсь в споры по поводу чужих принципов. Написал целый том заметок об эволюции мадригала в пятнадцатом веке. Стоял у смертного одра множества людей и к тому же, смею надеяться, сумел повлиять хотя бы на некоторые души посредством слова, произнесённого с кафедры.
Однако несмотря на всё это, должен признаться, что у меня — как бы это выразиться? — никогда в жизни ничего не было с женщинами.
Говоря предельно точно, ещё только три недели назад я если и прикасался к какой-нибудь из них, то лишь для того, чтобы помочь подняться по ступенькам или что-либо в этом духе, по необходимости. И даже тогда я старался выбрать такое место для прикосновения, плечо или талию, где кожа была закрыта, так как непосредственный контакт между моей кожей и их был для меня всегда невыносим. Прикосновение кожи к коже, то есть моей кожи к коже женщины, будь то нога, шея, лицо, рука или просто палец, внушало мне такое отвращение, что я приветствовал дам не иначе, как крепко сцепив руки за спиной во избежание неминуемого рукопожатия.
Я ещё больше скажу и признаюсь, что любого рода физической контакт с ними, даже если кожа и не была обнажена, мог основательно пошатнуть моё равновесие.
Если женщина стояла рядом со мной в очереди так, что наши тела соприкасались, или была прижата ко мне на автобусном сиденьи, бедро к бедру и нога к ноге, я начинал пылать, как маков цвет, и по всему темени у меня выступали мелкие капли пота.
Такое состояние вполне естественно для школьника, только начинающего вступать в возраст половой зрелости. В случае с ним это обычный способ матери-природы ставить препоны и удерживать юношу до тех пор, пока он не вырастет настолько, чтобы вести себя как подобает джентльмену. С этим-то всё ясно.
Но мне было совершено не ясно, почему, с какой стати я, зрелый мужчина тридцати одного года, продолжал страдать подобными переживаниями. У меня был большой опыт противостояния соблазну и, разумеется, никакой склонности к вульгарным страстям.
Если б я хоть самую малость стыдился собственной внешности, это ещё могло бы послужить разгадкой. Но я не стыдился. Напротив, по моему собственному мнению, судьба в этом смысле обошлась со мной довольно милостиво. Мой рост без обуви составлял ровно пять с половиной футов, а плечи, хотя и несколько покатые, гармонично соотносились с моей небольшой, правильно сложённой фигурой. (Лично мне всегда казалось, что лёгкая покатость плечей придаёт благородный и тонкий эстетический шарм мужчине не самого великанского роста, как по-вашему?) У меня были правильные черты лица, в прекрасном состоянии зубы (разве что чуть-чуть выступающие на верхней челюсти), а волосы, необычайно яркой рыжизны, плотной шевелюрой облегали голову. Видит Бог, я встречал мужчин, которые по сравнению со мной были вылитыми обезьянами, а между тем демонстрировали поразительный апломб в отношениях с прекрасным полом. И ах! Как я им завидовал! Как я хотел быть похожим на них — способным участвовать в тех приятных, лёгких ритуалах общения, которые я постоянно наблюдал между мужчинами и женщинами: пожатия ладоней, поцелуи в щёку, переплетения рук, безмолвная игра ног под ресторанным столиком и, более всего, полное, откровенно-страстное объятие двоих, танцующих на площадке.
Но такие вещи были не для меня. Увы, я, напротив, был вынужден прилагать усилия к тому, чтобы их избегать. А это, друзья мои, было легче сказать, чем сделать, даже для скромного викария в небольшом заштатном городке, вдали от плотского варева мегаполисов.
Дело в том, что в моей пастве было несоразмерное число женщин. Приход просто кишел ими, а к этому несчастью добавлялось ещё и то, что не менее шестидесяти процентов из них были старыми девами, абсолютно не задетыми усмиряющим воздействием святой матримонии.
Что и говорить, я вертелся, как уж на сковородке.
Можно было бы предположить, что со всем тем основательным воспитанием, которое дала мне в детстве моя мать, я мог спокойно относиться к этим вещам, и, без сомнения, так бы оно и было, проживи она достаточно долго, чтобы завершить моё образование.
Она была удивительной женщиной, моя мама. У неё был обычай носить массивные браслеты на запястьях, пять или шесть одновременно, с которых свисали всякие штуки, звякавшие, ударяясь друг о друга, когда она двигалась. Всё равно, где она была, её всегда можно было найти по звяканью этих браслетов. Они были, как коровий колокольчик, даже лучше. По вечерам она обычно садилась на диван в своих чёрных брюках, сложив ноги по-турецки, и курила свои бесконечные сигареты через длинный чёрный мундштук. А я пристраивался на полу и смотрел на неё.
— Хочешь попробовать мой мартини, Джорджи? — спрашивала она.
— Перестань, Клэр, — говорил отец. — С таким легкомыслием ты можешь нарушить его развитие.
— Давай, давай, — продолжала она. — Не бойся. Попробуй.
Я всегда делал то, что велела мне мама.
— Ну хватит, — говорил отец. — Достаточно с него знать, что это такое на вкус.
— Пожалуйста, не мешай, Борис. Это очень важно.
Моя мама придерживалась теории, по которой ничто в мире не должно быть для ребёнка тайной. Покажи ему всё. Заставь его испытать всё.
— Мне совсем не хочется, чтобы моему сыну пришлось шептаться по углам с другими детьми о грязных делишках и строить догадки о том или ином только потому, что все об этом молчат. Расскажи ему всё. Заставь его слушать.
— Иди-ка сюда, Джорджи, я расскажу тебе, что нужно знать о Боге.
Она никогда не читала мне сказок перед сном; вместо этого она что-нибудь рассказывала. И каждый вечер это было что-то новенькое.
— Иди-ка сюда, Джорджи, и хочу рассказать тебе о Магомете.
Она, как всегда, сидела по-турецки на диване в своих чёрных брюках и подзывала меня томным движением руки, в которой держала длинный чёрный мундштук. Она поднимала руку, и браслеты начинали позванивать.
— Если тебе придётся выбирать религию, то, полагаю, мусульманство ничем не хуже остальных. Оно целиком основано на здоровом образе жизни. У тебя много жён, а курить и пить запрещается.
— А почему нельзя курить и пить, мамочка?
— Потому что, когда у тебя много жён, ты должен заботиться о поддержании своего здоровья и мужских достоинств.
— А что такое мужские достоинства?
— Об этом я расскажу тебе завтра, моя рыбка. Давай каждый раз заниматься одной темой. Пойдём дальше. У мусульманина никогда не бывает запоров.
— Но Клэр, — вмешивался вдруг папа, глядя поверх книги. — Чем ты это докажешь?
— Дорогой мой Борис, ты абсолютно в этом не разбираешься. Вот если бы ты попробовал ежедневно кланяться и бить лбом о землю, повернувшись к Мекке, каждое утро, полдень и вечер, то у тебя, возможно, было бы чуть меньше проблем в этой области.
Я обожал её рассказы, хотя и понимал от силы половину того, что она говорила. Она действительно раскрывала мне тайны, и для меня не было ничего более волнующего.
— Иди-ка сюда, Джорджи, я расскажу тебе о том, как твой папочка делает деньги.
— Но Клэр, может быть, всё-таки хватит?
— Ерунда, дорогой. Чего ради скрывать это от ребёнка? Он только вообразит себе что-нибудь ещё в сто раз худшее.
Мне было ровно десять лет, когда она начала давать мне подробные лекции по вопросам пола. Из всех тайн это была наибольшая и потому самая заманчивая.
— Иди-ка сюда, Джорджи, сейчас я расскажу тебе, как ты появился на свет, всё с самого начала.
Я увидел, как отец бросил осторожный взгляд и широко раскрыл рот, как всегда, когда он собирался сказать что-либо жизненно важное, но мама уже держала его на прицеле её великолепных сверкающих глаз, так что он снова углубился в книгу, не произнеся ни звука.
— Твой бедный папочка смутился, — сказал она, улыбнувшись заговорщицкой улыбкой, которой дарила только меня и никого больше: один уголок губ приподнимался и образовывал чудную продолговатую морщинку, тянувшуюся до самого глаза, — получалось что-то вроде подмигивающей улыбки.
— Смущение, моя рыбка, это то чувство, которое я никогда не желала бы тебе испытывать. А что касается твоего папочки, то не думай, что он смутился только из-за тебя.
Отец начал беспокойно ёрзать в кресле.
— Боже мой, он смущается из-за таких вещей даже наедине со мной, его собственной женою.
— Из-за каких вещей? — спросил я.
На этих словах отец поднялся и тихо вышел из комнаты.
Думается, это было за неделю до того, как моя мама погибла. Хотя, может быть, и чуть раньше, дней за десять или четырнадцать, я не уверен. Я только знаю наверняка, что тогда мы приближались к концу этой особой серии разговоров, когда это случилось, и поскольку я лично был вовлечён в стремительную череду событий, приведших к её смерти, я до сих пор помню мельчайшие детали той странной ночи так, будто это произошло вчера. В любое время я могу включить свою память и пропустить её перед глазами, как киноленту; ничего не меняется. Она всегда останавливается на том самом месте, не дальше и не ближе, и всегда начинается тем же самым неожиданным образом: затемнённый экран и голос мамы где-то надо мной, произносящий моё имя: