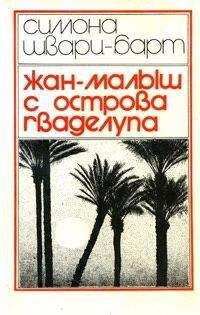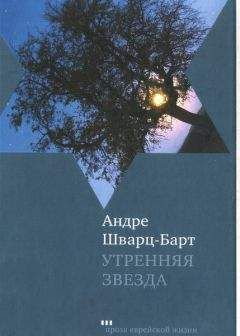Но вот однажды, когда на землю спустились вечерние сумерки, а небо заволокло тучами, у хижины матушки Элоизы появился незнакомый старик и сказал, что хочет с ней поговорить. То был чудной человек, высоченный, худой как скелет, в широкой шляпе, полы которой вяло спадали ему на плечи. На нем мешком висели домотканые штаны и рубаха, совсем облезлые, в клочьях рваных волокон, словно шерсть линяющей собаки. Уже три дня Жан-Малыш не видел ворона, три дня, как тот не провожал его в школу и на реку, не сидел по вечерам на своей ветке гуаявы. Он боялся, что призрак, устав от его упреков, возвратился туда, откуда пришел; и комок подступил к его горлу, когда ему почудилось, будто он узнал своего крылатого духа в этом незнакомце, который ждал у порога, с испитым лицом странника, казавшегося неприкаянным привидением, блуждающим между небом и землей…
При виде этого человека матушку Элоизу охватила дрожь, с величайшим почтением она повела его за руку в хижину и усадила за стол, прикасаясь к нему осторожно и боязливо, будто к какой-то святыне. Она поставила перед ним тарелку с едой, бутылку рома, чашку родниковой воды, и старик спокойно начал есть руками, будто не замечая блеска лежащей рядом вилки. Матушка стояла подле него, слегка наклонившись вперед. И всякий раз когда незнакомец собирался наполнить свой стакан или отломить кусочек хлеба, она с невероятным проворством делала это за него, будто только и ждала, чтобы заботливой наседкой предупреждать его малейшее желание. Когда он насытился, рыгнул раз-другой и сполоснул пальцы в чашке, она отвернулась в сторону и едва слышно вымолвила:
— Вот ты и пришел ко мне в гости, старый Эсеб?
— Узнала, вижу, что узнала, — произнес человек, причмокнув от удовольствия. — Тебе ведь известно, кто меня прислал, дочка. Да, это Вождь велел мне прийти сюда, он сказал: спустись к Нижним людям и найди Аву, скажи ей, что от меня уже веет тленом, умру на заре, и, прежде чем уйти, мне нужно повидать мальчика. А еще Вождь сказал: эта несчастная не доверит тебе своего Щенка, так пусть придет вместе с ним…
— И больше он ничего обо мне не сказал, только то, что я несчастная, и все?
— Нет, не все, — ответил старик, смущенно улыбнувшись. — Вождь сказал еще: «К тому же мне будет приятно повидать ее напоследок…»
— Приятно… он сказал, что ему будет приятно, — несколько раз тихо повторила матушка Элоиза; ее лицо выражало смятение, а руки висели словно плети; потом глаза ее засверкали такой радостью, таким счастьем, что она даже прижала ладонь к сердцу, стараясь умерить его сумасшедшее биение, а ее тонкий, иссохший рот изумленно раскрылся…
Втроем отправились они в путь и медленно добрались по тающим в ночи, различимым только для их ног тропам до горных круч. Когда они вошли в лес, луна уже поднялась над деревьями и брызгала матовым серебром на листву, разливала лужи бледного света по ковру мхов. В этом сказочном сиянии мальчик смотрел на мать, которая тяжело карабкалась вверх, так что плечи ее ходили ходуном, рот был широко раскрыт, а рука по-прежнему прижата к сердцу: она все еще не опомнилась от недавнего потрясения. Она ведь всегда знала правду о Бессмертном, думал он, вспоминая о том, как пепельно серело лицо матери, едва до ее слуха доходили некоторые слова или имена. Уже несколько часов были они в пути. Один раз шедший впереди старик остановил их жестом и тихо произнес: сейчас мимо нас пронесутся Силы Тьмы, не бойтесь. Через мгновение по горам прокатился сдавленный грохот, возник огненный хвост, который, обогнув острую скалистую вершину, змеей устремился вниз и угас где-то над морем. Вновь наступила тишина, старец вздохнул и пошел дальше. Когда лунный свет упал на его лицо, Жан-Малыш увидел, что оно стало вдруг мокрым от пота, а сам старик горько ворчал себе под нос: такой черной ночи на Гваделупе еще никогда не было. Скорбит небо, скорбит земля, а потомки рабов ничего не слышат, ничего знать не хотят, спят себе как ни в чем не бывало, а ведь нынче от нас уходит последний сын Африки. Вот уже сто и еще сто лет минуло, с тех пор как ты покинул свою родную деревню, старый воин, и теперь ты возвращаешься назад, Вадемба, оставляешь нас во мгле. Ты говоришь, что дальше нет пути, что дорога оборвалась, что тебе пора, давно пора на Старую землю; но разве сам ты не был для нас дорогой, последней нашей дорогой?.. И вот теперь мы во мгле, в непроглядной мгле…
Когда они подошли к подножию плато, старик отодвинул в сторону тугие листья алоэ, и в колючих зарослях, которые показались Жану-Малышу непроходимыми в тот день, когда он пошел на звук барабана, на ту самую песнь, что принес с плато ветер, открылся узкий проход. Потом был крутой подъем по узкой тропе, с двух сторон которой зияла пропасть, и, наконец, заросшие руины на плато. И вот они подошли к круглой, побеленной лунным светом хижине, настоящему африканскому жилищу, какое можно увидеть лишь на картинках, с крышей, обвисшей, как шляпа старого Эсеба. Слабое сияние освещало несколько застывших у входа фигур: древних мужчин и женщин в иссохшей наготе, с ликами призраков. Собрались здесь и разные дикие звери, которые сидели всяк по-своему, завороженные общим ожиданием. Были и такие, кто, казалось, никак не мог решиться, к какому племени пристать: их носы и рты были человеческими, а из звериной шерсти или из птичьих перьев, как у разбившейся на дороге тетушки Жюстины, торчали огромные, несуразные уши. Старый Эсеб широко шагнул вперед своей странной, танцующей юной поступью, и его силуэт слился с другими замершими фигурами, стал таким же немым изваянием. И тогда из хижины раздался низкий глубокий голос, торжественный и печальный, тот самый голос, что принес в тот день ветер Варфоломеевой горы: «Входи, Малыш, входи скорее, ибо те, что стоят у порога, тебе не ровня…»
Матушка Элоиза прошла мимо толпы духов, учтиво поклонившись им, и толкнула сына внутрь хижины. У мальчика зарябило в глазах, он невольно зажмурился и только минуту спустя поднял веки. На твердом земляном полу коптили масляные светильники, в их тусклом мерцании поблескивали стены, покрытые древним слоем сажи, угрюмые, как своды пещеры. В полутьме можно было различить глиняную посуду, очаг из грубых камней, ложе в самой глубине лачуги, устланное сухой травой и пальмовыми листьями, а из-под темного конуса потолка свешивались, подвязанные к перекрытиям, пучки целебных трав…
В самом центре хижины на низком резном табурете сидел, прижав колени к груди, огромный старик; если не считать широкого кожаного пояса и ремешка на руке, он был гол, как и те, снаружи. Жан-Малыш еще никогда не видел таких больших людей. Круто выступавшие ребра, будто обручи на готовой рассыпаться бочке, охватывали торс гиганта, а иссохшее тело напоминало жалкие, выброшенные на берег, насквозь изъеденные водой и солнцем стволы деревьев. Массивный морщинистый лоб покоился на коленях, и видна была только пышная шапка волос — пожелтевший хлопковый куст? — точь-в-точь как перья над клювом и красными глазами ворона. Казалось, жизнь покинула этого человека; он, наверное, умер, пока мы входили в хижину, подумал Жан-Малыш, но вот массивный лоб медленно поднялся, и человек сказал:
— Видишь, Малыш, пока я еще двигаюсь, стало быть, я жив; подойди же, мой вьюнок, дай хоть раз посмотреть на тебя человечьими глазами…
Жгучей тоской загорелись изнуренные глаза, напомнив Жану-Малышу о печальном взоре ворона. Он шагнул к старику, который весь подался вперед, вытянул свою худую жилистую шею, чтобы лучше рассмотреть ребенка уже подернутыми предсмертной поволокой зрачками. Ему, наверное, плохо было видно; он потянулся за масляным светильником и начал водить им перед мальчиком, явно любуясь, удовлетворенно прищелкивая языком. Потом он бережно поднял лежавшее у ног старинное ружье, и глаза его порозовели от волнения.
— Посмотри, — сказал он, — посмотри на этот мушкет, он принадлежал человеку, который когда-то жил на нашем плато. Этого человека звали Обе, он был моим другом, и я горжусь этим. Да-да, его звали просто Обе. Ты обучался в школе разным буквам, но ты не найдешь это имя ни в одной книге, ибо так звали храброго, достойного человека. Да откуда тебе знать о нем? Правда. Нижние люди могли бы тебе о нем поведать, рассказать о его жизни, но вот уже почти двести лет, как они делают все, чтобы о нем забыть…
А что остается от человека, кроме его деяний? — задумчиво продолжал Вадемба, — тех деяний, память о которых неотступно следует за ним, ведь без нее и жизнь останавливается. Но эти бедняги, прижившиеся на острове-скорлупке в океане, совсем обеспамятели и живут сегодняшним днем, предав забвению тень своего прошлого…
Жадно ловя каждое слово Вадембы, мальчик благоговейно смотрел на украшенный резьбой мушкет, на его серебряный затвор, на чудной рожок для черного пороха, — такими же доселе пользовались некоторые старые охотники Лог-Зомби. А завораживающий голос старика продолжал: