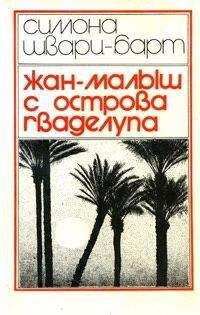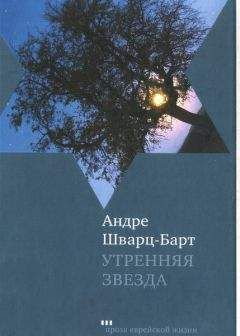А что остается от человека, кроме его деяний? — задумчиво продолжал Вадемба, — тех деяний, память о которых неотступно следует за ним, ведь без нее и жизнь останавливается. Но эти бедняги, прижившиеся на острове-скорлупке в океане, совсем обеспамятели и живут сегодняшним днем, предав забвению тень своего прошлого…
Жадно ловя каждое слово Вадембы, мальчик благоговейно смотрел на украшенный резьбой мушкет, на его серебряный затвор, на чудной рожок для черного пороха, — такими же доселе пользовались некоторые старые охотники Лог-Зомби. А завораживающий голос старика продолжал:
— Это ружье наделено великой силой, ибо я вложил в него все, что знал и умел. Завтра оно будет похоронено вместе со мной. Но однажды оно тебе понадобится, ты придешь и выкопаешь его из могилы, ибо так угодно богам. А раз тебе самой судьбой назначено стрелять из него, не бойся, мальчик мой, возьми в руки это старое огненное жерло и скажи мне, хочешь ли ты услышать историю Обе, моего друга Обе, человека, которому оно служило до тебя?
Обеими руками схватил Жан-Малыш ружье, и сразу же в его душе разлился неведомый свет: ему показалось, что он проник теперь в тайну природы вещей, в незримый, величественный мир, который он всегда чуял под личиной обыденности. И хотя имя Обе никогда не встречалось ему в книгах, хотя он его никогда до этого не слышал, он понял, что всегда стремился узнать историю его жизни, что он родился на свет, чтобы услышать сегодня ночью эту историю из уст своего деда. Слезы застлали ему глаза, и старик сказал: хорошо, лучшего ответа ему и не надо. Он осторожно взял мушкет из рук мальчика и положил его, бережно и почтительно, будто живое существо, У своих ног. Потом он медленно поднял руку, широким, плавным жестом протянул огромную, округленную, как чаша, ладонь к Жану-Малышу, обвел ею, не касаясь кожи, лицо мальчика, как бы погладив его на расстоянии:
— Слушай, мой маленький буйволенок, близок мой смертный час, и от меня уже веет тленом, поэтому я не стану рассказывать тебе о детстве Обе, которое тот провел на плантациях, в грязи; да, и тело и душа его пребывали в грязи, ибо мой друг Обе был сыном и внуком рабов. Ничего тебе не скажу и о том, как он дрался вместе с нами, на наших глазах, с того дня, как мы ушли в леса. Я начну с конца, с того, как он устремился с этого плато вниз с простреленной грудью и рукой, перебитой осколком ядра. Нас окружили, пули были на исходе, одно копье Обе держал в здоровой руке, два других сжимал зубами. И вот он бросился на строй французских солдат и вонзил свои копья сразу в троих наступавших, успев бросить им в лицо: «За деда, за отца и за меня!..»
Слегка откинув назад голову и устремив куда-то вдаль слепой, отрешенный взор, старик покачивался, будто в такт только ему слышимой музыке, немолчной музыке памяти, что звучала в его голове, под тяжелыми веками в бахроме белых ресниц.
— Да, он устремился вниз со скалистого плато в последний раз, и было это через несколько лет после зарева над Матубой []…
Меня же, твоего деда, привезли сюда мальчишкой, твоим ровесником, в самый разгар Революции, только не нашей, а их, белых. Тогда мои глаза еще не могли разглядеть зарево над Матубой, и только позже я постиг все его величие. Но белым-то пришлось вдоволь насмотреться на него, они-то долго о нем помнили, и им не хотелось, чтобы оно вспыхнуло вновь. Поэтому прежде, чем повести Обе на гильотину, ржавую рухлядь, которую они установили у самой пристани Пуэнта, они содрали кожу с его подошв. Они, видишь ли, надеялись, что он не сможет идти на казнь своей гордой поступью. Но они просчитались, и рабы, которых согнали на зрелище и которые стояли на всем пути Обе, ничего не заметили, кроме тех, кто был в первом ряду и видел кровавые следы, что он оставлял за собой… Потом, когда его положили на гильотину, нож дважды застревал над головой героя, и тогда Обе, никогда не терявший благородного достоинства и улыбки, спокойно им сказал: этак, господа, вы и вправду меня порежете…
Вадемба тяжело опустил веки в бахроме белых ресниц, будто на миг уснул.
— Вот так, — заключил он, и голос его зазвучал чуть пронзительнее, — так ушел друг Обе, давно это было… Не одну, не две и не три человеческие жизни назад — с тех пор, как меня мальчишкой привезли на этот остров-скорлупку в океане, сменилось на земле десять поколений. Видел я несчетное число восходов и мог бы тебе рассказать о многих других неграх: об Ако, Мундуме, Н’Деконде, Джуке Великом, с которым я взобрался на это плато, и еще о многих, многих других… Да что говорить: когда вернешься сюда, склонись к этой траве и вбери в себя ее запах — ведь это волосы спящих под землей героев…
Вадемба замер в оцепенении с высоко поднятой головой, прочно расположив на коленях увесистые кулаки с зажатыми внутрь большими пальцами, точно как Жан-Малыш, когда был еще сосунком. Эта особенность заставила Жана-Малыша вглядеться в спящее лицо великана, в его долгие, вытянутые к вискам глаза, массивный нос, высокие скулы, крутой козырек надбровий. Сознание его помутилось: он смотрел на самого себя, на свое собственное отражение в бездонном колодце времени…
От огромного сонного тела исходил запах мускуса, тяжелый запах одинокого зверя, и тут Жан-Малыш почувствовал тихое присутствие матушки Элоизы, которая, войдя в хижину, сразу же укрылась в тени, тесно прижавшись к стене. Он подумал о том, как только что блестели ее глаза, когда она спешила в ночной черноте к этому могущественному человеку, который снизошел до нее лишь в предсмертный час, и его вдруг охватил гнев. Он вспомнил, как бедняжка наглухо закрывалась в четырех стенах: она ведь всегда жила в непостижимом, великом, как океан, страхе, и смирилась, приняла его как нечто неизбежное, как воздух, которым дышала, как свои тонкие косички, которые, казалось, искрились на ее затылке, как свои прекрасные глаза, похожие на озера, готовые подернуться рябью при малейшем дуновении ветра. И тогда мальчуган сказал себе: матушка Элоиза, ты ведь знаешь, что значишь для меня, как мне дорог даже твой самый слабый вздох. И вот уже сжались его кулаки, и он уже развернулся, чтобы, не раздумывая, нанести старику смертельный удар, когда сжавшийся было рот раскрылся и промолвил:
— О боги, и это моя-то кровинка хочет заставить меня держать ответ в тот самый час, когда я отправляюсь в царство теней!
Затем веки его поднялись, открыв долгие спокойные глаза, в которых, казалось, отразился далекий бледно-розовый закат, и тот, кого считали бессмертным, впервые улыбнулся ему.
— Тебе не за что меня ненавидеть, мальчик мой, — сказал он. — Я послал твою мать к Нижним людям, ибо мне не хотелось, чтобы ты слишком рано узнал запах этих лесов, ведь иначе ты уже никогда не спустился бы вниз; теперь ты видишь: здесь тебя ждало лишь одиночество и смерть… Но ты меня кое-чему научил, и, если бы я мог дать тебе имя, я назвал бы тебя Жгутом Лианы — ведь она может перекинуться с дерева на дерево и скрепить их. Скажи мне, что ты думаешь о Нижних людях?
Он долго испытующе смотрел на молчавшего мальчика, потом удивленно произнес:
— Ты считаешь их… красивыми, так? Мальчик согласно кивнул головой.
— Ну а еще?
Потерявшийся мальчуган закусил губу.
— Ты хочешь сказать… что они даже больше чем красивы, так?
Жан-Малыш быстро закивал головой, обрадовавшись, что старик так хорошо прочел его мысли.
— Вот оно что, — задумчиво произнес Вадемба, — я вижу, ты как слон, у которого не один дом и не одна жена. По правде сказать, я часто осуждал Нижних людей, ведь из всех живых тварей на свете только они одни забыли свое гнездо. Но, взглянув на них твоими глазами, я упрекну их лишь в короткой памяти, если ты не против, мой мальчик… С меня другой спрос, — продолжал он задумчиво, — ведь я из племени тех, чья кровь тяжела и тягуча и кто никогда ничего не забывает…
Потом он опять улыбнулся:
— Скажи мне, а что тебе особенно нравится в Нижних людях?
Лукавство, — ответил на этот раз мальчуган.
— Ага!.. Теперь мне ясно — ты все видишь насквозь, и, если бы я мог дать тебе африканское имя, я нарек бы тебя Абунасанга, что значит Тот-кто-проникает-в-суть-вещей… Кто знает, может быть, однажды тебе придется зажечь само солнце…
— Солнце? — весело воскликнул Малыш.
И вновь разжались бугристые черепашьи пальцы и Робко приблизились к лицу Жана-Малыша, не касаясь его, лишь следуя овалу:
— Пока есть еще время, прими в себя все тепло моей ладони, чтобы в урочный час вспомнила о ней твоя плоть…
Потом, наклонившись, Вадемба поднял глиняный кувшин и вылил из него на твердый земляной пол несколько капель беловатой густой жидкости, в которой плавали круглые желтые зернышки. Всякий раз, как земля всасывала каплю, он произносил несколько слов на неведомом языке. Потом он знаком подозвал матушку Элоизу, налил гостям напиток в маленькие чашки, обхватил кувшин ладонями и с улыбкой сказал: