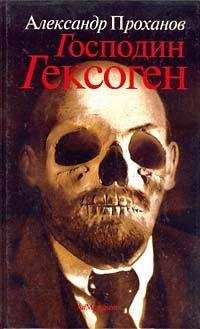Стадо клубилось внизу, наполняя улицу, и он, испытав внезапное мучительное любопытство, сбежал со стены и, прижавшись к забору, смотрел, как с гулом накатывается на него лавина дрожащих спин, хлещущих хвостов, кровью налитых белков. Ужасное, тяжкое было зрелище мычащего стада. Но он не уходил, ибо в этом ужасном и тяжком была влекущая, болезненная и свирепая сила. Она утягивала его вслед за стадом и дальше, в невидимую, еще не существующую даль, в ненаступившее время, где он мог оказаться среди свирепых стихий мира.
– Куда? – крикнул он пробегавшему мимо погонщику.
– На бойню! – ответил тот хрипло.
Какая-то слепая сила сорвала его с места, и он понесся за стадом, дыша его смрадом и пылью. От тесноты и от боли в быках пробуждалась похоть. Они вскакивали один на другого и, дрожа загривками, бежали на задних ногах, высунув мокрые языки, поливая улицу мутной жижей. Погонщики с набрякшими венами осаживали их дубинами в гущу.
Стадо пронеслось по центральным улицам города, вырвалось на шоссе и покатило, пыля, по асфальту.
«Куда я? Бойня, война, свирепые похоти мира?.. Не для меня!.. Не мой путь!..» – Он очнулся и встал. Сердце колотилось, в глазах метались быки. Стадо пылило уже далеко красным пыльным комом.
Он вдруг почувствовал себя страшно утомленным и вялым, словно часть его жизни утекла вслед обреченному стаду. Медленно брел назад по пустому шоссе.
Когда солнце было уже высоко и палило, он сел на автобус и поехал на Снятную гору. Дорога вилась над самой Великой, и сквозь белую пыль спокойно голубела река, плыли по ней пароходики и лодки, зеленели луга на той стороне, и недвижное стадо пестрело у отмели. Автобус остановился в горячих соснах. Он поднялся по тропинке к церкви.
Сторож в заношенной офицерской фуражке отомкнул ему церковную дверь. Он вошел под прохладные гулкие своды с льющимся из купола воздухом, с зелено-розовыми полустертыми фресками. В алтаре у Глеба нежно горел край одежды. Ангел с острым соколиным крылом глядел со стены удивленно и радостно.
Он стоял в забытьи. Фрески над ним дышали ароматами трав и земли.
Вышел на пекущее солнце. Сторож гремел ключом и, наконец навесив замок, подошел к нему:
– А ты, чай, в Бога не веруешь? Ну, ну. Бог, он как сон – тебе приснился, мне нет. Вот и ходим, и ходим, бедные, – и побрел тихо прочь, размахивая ржавой связкой.
Он спустился к Великой и купался в разливе, глядя на светлые разводы ветра.
– Так вот вы где? – услышал он над собой – А я вас сверху увидела.
Аня стояла перед ним в бело-синей полосатой юбке, в соломенной шляпке, ее колени золотились у самых его глаз.
– Вы уже и фрески без меня посмотрели, и выкупались? – Не отвечая, он радостно смотрел на нее. Она смутилась и отступила на шаг. – Что, опять собор на вас рушится?
– Рушится, рушится! – засмеялся он. – Купайтесь, такая теплынь, замечательно!
– Вы все без меня успели.
– Купайтесь, я буду еще.
Округлым плавным движением она скинула шляпку, выпустив на плечо золотистый, рассыпающийся пук. Отвернулась и одним сильным взмахом освободилась от юбки, оставшись в черном атласном купальнике. Хмуря брови, чувствуя на себе его взгляд, пошла от него к реке.
Он смотрел жадно, как она входит в воду и вода подступает под ее круглые колени. Сильно, молча, без плеска она легла на воду и поплыла бесшумно и быстро, как зверь, подымая из воды белые плечи, и волосы ее сияли, как тяжелый слиток. Встала из воды, гладкая, яркая. Изогнулась, отжимая влагу из потемневших волос, и, подойдя, опустилась, уронив мокрую руку в жаркий песок. Аня улыбнулась бело и ярко, держа в зубах ромашку.
– Вы плыли, как выдра, – сказал он, чувствуя, как прохладный свежий аромат идет от всего ее тела.
– Как выдра? – переспросила она, быстро взглянув на него.
– Как бесшумная выдра, – сказал он и взял ее за руку.
Капли дрожали на ее загорелом, с белой дорожкой плече. Она не отнимала руки. Он закрыл глаза, потянулся вперед и поцеловал ее. Губы ее были глубокие, мягкие, и быстрый пугливый язык, и он целовал ее, не раскрывая глаз, то уходя в мучительный сладкий омут, то возвращаясь в горячий, бьющий сквозь веки свет.
Они сидели молча, боясь произнести слово. Она смотрела на реку, и были в ее взгляде радость, и боль, и отблеск реки, и голубоватые прозрачные слезы.
– Не плачь, не плачь, – сказал он тихо, – ты моя милая. Не плачь, не плачь. Ты моя милая, чудесная.
Они вернулись в город. Ходили на рынок и, пачкая губы, ели сладкую чернику с попадавшимися в ягодах сосновыми иглами и листочками. Лазали на собор, на серебристый купол, и земля казалась наполненной свежестью чашей, а шары гудели под ними, унося в ветряное голубое пространство. Они ездили на автобусе к реке Мироже и смотрели, как зреют в садах вишни. А вечером гуляли по сумеречным улочкам и слушали, как цокает по булыжнику лошадь, как в чьем-то полукруглом окне негромко играет рояль.
Он уехал в Малы наутро, и Аня обещала приехать следом, в субботу, когда археологи отдыхали. Автобус урчал мотором. Он забывался в счастливой дремоте. Шоссе неслось прямое и синее.
Он поселился в Малах у кузнеца Василия Егоровича, закопченного, с железными зубами, казалось, изготовленными в той же кузне, где и подковы, лемеха, тележные обода. Маленькая застекленная веранда выходила в сад. Кузнец принес ему вазу с отколотым горлом, букетик полевых цветов, и они медленно вяли у него на столе.
Он работал в кузне, помогая Василию Егоровичу. Раздувал горн, подкидывал мелкий пыльный уголь, остро вспыхивающий, спекающийся в малиновый ком. Шумели мехи, со свистом летели белые тонкие искры, пахло серой. Они с кузнецом отковывали болты для комбайна. Комбайнер Ивашка Якунин, по прозвищу Драгунок, – дед его при царе служил в драгунах – узкогрудый и кроткий, сидел у порога, залитый со спины солнцем, и застенчиво смотрел на Белосельцева, а тот, выхватив клещами раскаленный прут, кидал его на наковальню со звоном, и кузнец хлопал молотком, выбивая из железа пламя, и оно сминалось под ударами.
Под горой разливалось ленивое прекрасное озеро, стояла пятиглавая церковь, и другая, в развалинах, с кровлей, поросшей дерном и полевыми цветами. Внутри церкви было тепло, солнечно, пестрели в вазах цветочки. Священник, сухонький, как пучок травы, поправлял лампадки. Стоя в бледном пятне солнца перед образами, он сладко, мечтательно представлял, как они с Аней войдут в эту церковь, и священник подымет над их головами жестяной зубчатый венец.
Он проснулся с ощущением улетающего вещего сна. Из туч падал ровный холодный дождь. Куст, перевитый вьюнками, шелестел и слезился. Он выскочил из дома, намереваясь добежать до озера, но на середине дороги передумал и медленно побрел назад под дождем, вымокая до нитки.
На крыльце стоял Василий Егорович, задумчиво глядя на гремучую струю, льющуюся из желоба в бочку.
– А к вам гости, – сказал он. – Не угадаете кто.
– Гости? – воскликнул Белосельцев и, стряхнув с волос воду, бросился на веранду.
Аня сидела на краешке стула, вся мокрая, среди темных водяных росчерков на полу. Обернулась на него влажным, розовым от дождя лицом. Он, как был в мокрых башмаках и одежде, кинулся к ней и обнял, чувствуя щекой ее мокрое платье, дышащее тело, прохладное, с горячим дыханием лицо.
– Приехала! Вымокла вся! Я так тебя ждал!
– А я шла к тебе по болоту. Иду, а дождь припускает. Иду, а он припускает.
– Да что ж это я сижу! Ты дрожишь вся. Разденься, и под одеяло. Скорей! У меня есть немного водки и мед. Стану тебя греть. Шла по болоту, как цапля. Замерзла, бедная!
Он выскочил к Василию Егоровичу, достал из шкафчика банку меда, початую бутылку водки, стакан. Откромсал ложкой ломоть крупчатого крепкого меда, залил водкой в стакане, размешал и отпил мутно-желтый пахучий настой. Напиток показался ему обжигающе крепким, душистым.
Когда он вернулся, неся стакан, Аня уже лежала, укутанная до подбородка одеялом, только живые глаза ее ярко блестели. Он наклонился над ней, чувствуя, как идет от нее холодная свежесть.
– На-ка, выпей! От всех болезней.
– Ой, какой жгучий! Но какой сладкий, душистый. Я от него опьянею.
– И пьяней на здоровье. Не страшно, ты уже дома.
– И ты выпей. На тебе нет сухой нитки. А я уже опьянела.
– Все думал о тебе эти дни. Думал и пугался: а вдруг не приедешь? Вдруг тебе покажется все смешным и ненужным. Становилось так страшно!
– А я шла к тебе по болоту.
– Ах ты, цапля моя! Ну как? Немножко теплее? Ведь правда, теплее?
– Гораздо теплее. И ты еще выпей немного.
Он наклонялся над ней, быстро целовал ее в медовые губы, в дождевые сырые волосы, а она, высвободив из-под одеяла голую руку, обняла его голову, притянула к себе и, отстранив, долго смотрела, а потом дунула, сбивая с его бровей капли.
– Так странно, верно? – сказала она, проводя пальцем по его бровям, лбу, губам. – Странно ведь, да?