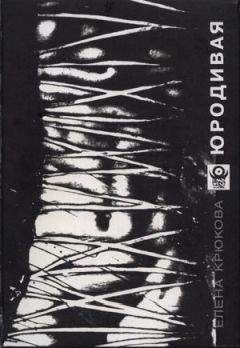— Будет. Хорошего помаленьку. Не делай лечьбу ядом. Не сломай гибкий прут, а лишь перегни. Есть искусство жить. Жить ты не умеешь, Ангелица. Да и не нужно тебе этого умения. Помнишь ли ты, откуда ты?..
Я закрыла глаза и стала вспоминать.
— Я упала с небес, старик. Я упала с небес. Там было прекрасно жить. Но Господь разгневался на меня, за то, что неверно, мало и плохо я служила в небе Ему. Я бежала по тучам, наступила в дыру, в проем пустоты, меня завертел сильный ветер, и я упала. Падала я долго. Не помню, сколько…жизней. Упала! Ночь. Площадь. Снег. Война. И мой сын лежит, раненый, и умирает. Я воскресила его. Накормила снегом. Напоила снегом. Снегом умыла. И мы пошли искать. Тебя. Тебя, старик. Показывай свои картины. Я не забоюсь ничего. Я много раз умирала, старик. А это что за мальчишка рядом с тобой?.. Почему он все время молчит?.. Он в братья моему сыну годится…
Старик улыбнулся, и я увидела, что во рту у него всего два зуба; улыбнулся и мальчонка, и зубов во рту у него было тоже два, и они светились, горели радостно и грозно, выражая веселье— трын-трава, наперекор всему, эх, пляши! Клубком катайся! Колесом! Прыгай скоморохом!
А скоморохи мы, — сказал старик дурашливо и припрыгнул. Прыгнул и мальчонка, и шапка свалилась с его головы в снег. — Мы все показать можем. Бери в грудь воздуху! Сейчас что начнется!
Тьма, обнимающая Красную площадь, внезапно стала вспыхивать сначала туманно-перламутровыми, серебристыми бликами, потом все чаще, все страшнее — ярко-розовым, густо-оранжевым, ослепительно-золотым, алым, малиновым, багровым. Среди вспышек красного гуляли изумрудные и синие сполохи. Казалось — по всей площади, во всю ширину, полощутся красные флаги. И в этом безумии красного цвета, в разудалом его танце на площадной снег ниоткуда повалили скоморохи. Ноги, руки, спины, щиколотки, мохнатые треухи, бубенчики на колпаках, нашитые на кафтаны мочала, бубновые и червонные тузы, наклеенные на грубую кожу курток, щеки, размалеванные румянами, павлиньи перья за пазухой, живые петухи, вцепившиеся когтями в плечи и затылки — все шло колесом, гудело на дудках и сопелках, сверкало босыми пятками и сафьяном сапог, металось в сумасшедшей пляске, вертелось веретеном, подпрыгивало до небес, лизало снег то лисьим, то кометным хвостом. Это были настоящие скоморохи, и я с сыном на руках глядела, не отрываясь.
Кувыркались! Ходили на руках, задиравши ноги к звездам! Пойди врастопырку, враскоряку, а я ногу задеру да пяткой в небе дырку пробью— еще для одной звезды! Мы звезд тебе сколько хошь нарожаем! Догоним и еще добавим! Летит ракша, кряхтит квакша, а на пятках у тебя, кричали они мне, Ксения, выжжено по кресту, а ты сама об этом не знаешь, а и прикинули тебя жареной уткой ко посту!
У меня мелькало в глазах. Сын с моих рук глядел на вихрение скоморошьих тел как зачарованный. Один скоморох, молоденький, в островерхой красной атласной шапке, подкатился ко мне перекати — полем, растянулся на снегу у моих ног, с размаху сев на тощий зад, и, обратив ко мне свое, похожее на кошачье, лицо, заблажил:
— Швырк, дзиньк, сверк, смерк, брямк, дряньк… дрянь времечко наше, а ты свари его заместо каши! А ты-то ведь баба, и ручонки твои слабы: не удержишь черпак да по головушке бряк! А слева — красный флаг, справа — Андреевский флаг, а что у тебя на заду?.. так по жизни со срамом и иду!.. Эх, эх, баба, лезвие у тебя под пяткой — а ты толечко прикидываешься святой: глянь, у тебя пробиты гвоздями ступни, и текут из них на снег красные огни: ух, глаза разбегаются!.. брусника, малина, рябина, бузина, облепиха… экое лихо!.. вот, вот они, собирай, в рот пихай, в кулаках, дави, глотай…
Он сунулся мне под ноги. Он жадно собирал под моими ногами рассыпи красных ягод, они катились неизвестно откуда. Вокруг скоморохи в колпаках с бубенцами валялись и катались в снегу, со свистом и гиканьем тузили друг друга, бузили в сугробах. Два старых скомороха — один рыжебородый, другой с лысой и желтой, похожей на лимон, головой — обнявшись и приплясывая, распевали срамные песни. Скоморох-кот давил в пальцах ягоды, разбрасывал их по снегу, ел, смеясь, нагло блестя белками веселых сумасшедших глаз. Я с ужасом глядела, как снег пятнается алым, кровавится. Кот шевельнул усами, вскинул ко мне морду и осклабился.
— Твоя кровушка, бабонька-зазнобушка!.. Твоя… А толку что, измучили тебя или распяли — все равно другие спят на пуховом одеяле!.. А ты в подворотне как жила, так и померла… и старуха принесла тебе в подарок уши от мертвого осла… и свечку в церкви за тебя не сожгла… Спи-усни… обними — не обмани… Пляши, скоморохи, — остатние дни!..
Он вскочил, весь облепленный снегом, и сунул свои усы ко мне в губы. Целовался он яростно и неодолимо. Я не могла оторвать его от себя. Мальчик меж нами, зажатый нашими телами, заверещал, заплакал. Услышав детский писк, скоморох выпустил меня из объятий, сделал мне нос, показал язык, высунув его аж до ключиц, перевернулся колесом — да так, колесом, кругом, вздергивая в небо ноги, и укатился внутрь пляшущей и прыгающей скоморошьей толпы.
А они все плясали, размахнувшись одним безумным, сшитым из клочков и лоскутов людских жизней, пестрым флагом на всю широкую площадь — и дядьки-радушники в кровавых сафьянах, и пацаны, окутанные рыболовными сетями и увешанные, для смеху, рыболовецкими блеснами: вот она, наживка для тебя, сорога и стерлядь, для тебя, огромный колючий осетр, всепожирающее Время! Подбежал другой, с морщинами на лбу, с исцарапанным лицом, с павлиньим пером в зубах, с червонным сердцем на грязной спине. Захохотал, заплясал вокруг меня.
— Ах ты, Ксенька, Ксенька, кровавая жменька!.. — затряс кудлатой собачьей головой. — Мешай саламату в чугунном чану — а народ не признает лишь тебя одну!.. Все равно народ тебя одну заплюет, хоть он в тебя как в зеркало глядится, народ! Я слюну-то серебряную с усов ложкой обтер… А ты как всходила, так и взойдешь на костер! А костер-то наш жгут с утра до вечера и с вечера до утра: это, вишь, у них, у царей, такая, знать, игра! Не отвертишься от огня, хоть в прорубь стерлядкой сигай!.. Из синей печи неба дернут тебя, как зимний каравай… А мне — от тебя — кусочек — отрежут! Оттяпают — возьми, дурак, на!.. — вот, скоморох, те хрюшка, с кольцом в носу жена, вот, скоморох, те подушка — для опосля гулянки — сна, вот, скоморох, мирушка, а вот те и война!.. Ты мыслила — мы да в миру живем?!.. А мы лишь водкой бренчим в граненом стакане Божием… Гнись-ломись, поклониться мне утрудись, — в меня, скомороха, Ксенька, как в зеркало, поглядись! Себя ж увидишь! Забрюхатеешь, неровен час, ты, дура площадная, от всех площадных нас!…
Он перекувыркнулся на снегу передо мной раз, другой, третий; он катался под моими ногами на черном льду, дико смеясь, страшно скалясь, зубы его, как старая расческа, чернели пустыми дырьями. Налетели из-за угла его дружки, завели хоровод вокруг меня и сына, взмахивали сцепленными руками, кричали: «Наша царица! Ксенька, господенька, царица наша, жарена пельменька!..» Они исчезли, как провалились. На смену им выскользнули из тьмы другие скоморохи, побогаче. Эти были разодеты роскошно. Закутаны в красные, с золотыми кистями, знамена; в венецианский, иссиня-зеленый, как бок зимородка, бархат. Инородцы?! В русскую речь вплетались кабошоны неведомых словец. За поясами, за голенищами у них торчали ножи. Непростые это были скоморохи. Должно быть, это были не скоморохи-голь, а скоморохи-владыки — так победно, повелительно они глядели поверх бешенствующей поземки, поверх людских голов, сощурясь. Они кричали:
— Ледолом!… Ледолом!.. Каждый век мир идет на слом!.. Век кончается — морозной нитью истончается… А вы, люди, — звери!.. Глупые тетери!.. Мы вам головы дурили-дурили!.. Ладаном да травкою вас обкурили!.. Чем мы вас только ни кормили — вон, морды у вас, рыла и в дерьме, и в мыле!.. А вы, лисенята, из корыта багрец-баланду — пей! Пей! Лакай!.. Рудую романею из шей на снег — лей!.. Взалкай!… Красное вино хлещет, блея, пузырясь, — не успеешь подняться, а тебя опять харей — в грязь!.. Ударят — хрясь!.. Рыба-язь!.. Хайрюза плывут, светясь!.. Мечут красную икру… Глаза твои, Ксенька, — бирюза на ветру! Стоишь ты и думаешь: вот завтра помру! Вот на третий день меня скоморохи воскресят!.. А у них-то шальные зенки, как у зайцев, косят… А мы не люди — ножи! Мы лезвия! Пляшем-режем-рвем шелк гробов, кружева свадеб, бязь родов, гимнастерки войн, бархат знамен, — кто из нас острее, тот и силен! А мы ломаки, гаеры, шуты, а ты, гудошник, в дуду дуй, а сопельщика убьют — он смельчак, а не холуй! А волынщика пришьют к дубу во снежном поле, ему и каюк: звезды с неба спрыгнут, станут гвоздями, станут рыбами, вплывут в красные реки рук!.. Все красно на свете — и гусли гусляра, и вместо глаз дыра! И вместо шеи красный пень… че глядишь-то исподлобья, Ксенья, а Ксень?..
Один из толпы подскочил ко мне, выдернул из-за голенища нож, завертел его вызывающе перед моими глазами.