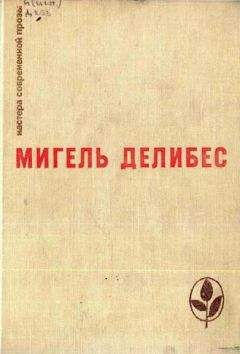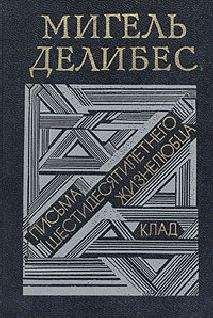Виктор вытер губы бумажной салфеткой. Глотнув вина, тронул Рафу за обнаженную белую, покрытую легким пушком руку.
— Боюсь, эта роль — для тебя.
— Хо! Для меня превыше всего — партия, разве не так?
— Ну-ка, положа руку на сердце, скажи, за последние полгода заглянул ты хоть в одну книгу?
Рафа воздел руку над головой и крепко сцепил пальцы в жесте солидарности.
— Я свято верю в демократию, — сказал он. — Не забывай, это будут демократические экзамены, впервые за сорок лет.
— И ты веришь, что их примут у всех без разбору?
— Ну не так, конечно, старик.
— А как же?
— Не по мне экзамены, и все тут, дурацкие испытания, проверка памяти — не более, чистый пережиток.
— Чем же мы их заменим?
— А это уже другое дело. Я знаю одно: если партия хочет заполучить молодежь, она должна покончить с экзаменами раз и навсегда. Другими словами, под это знамя пойдут все, не глядя, — учти, старик.
Лали, изящно действуя ножом и вилкой, расправлялась с форелью. Она подняла голову.
— Брось трепаться, — сказала она. — Первым делом партии надо покончить с барчуками и паразитами.
Виктор не сдержался, захохотал:
— Ну и ну, подруга!
— Это она про меня? — забеспокоился Рафа.
— Почему обязательно про тебя? Про барчуков и паразитов, — сказала Лали.
— Ну ты штучка, старуха, — сказал Рафа, склоняясь над тарелкой. Потом, помолчав: — Форель обалденная, правда?
Лали сжалилась, посмотрела на него.
— Ты соединяешь в себе все пороки мелкого буржуа: лень, чревоугодие и сластолюбие.
На детском лице Рафы отразилось неподдельное изумление.
— А что тут такого, черт подери! Не скрываю: я жизнелюб. Первое дело для меня — вкусно поесть и ухватить что послаще. Что в этом плохого? Они сами ко мне липнут, что мне прикажете делать? Клянусь, отбоя нет.
Виктор серьезно заметил:
— Учти, мы — за воздержанность.
— Воздержанность, ну и ну! Где ж ты видел воздержанность в руководящем аппарате? Может, в Евробилдинге, где они услаждают себя черепашьим супом и уткой с апельсинами? Не свисти! На такое воздержание я согласен.
— Чего же ты хочешь от жизни?
Рафа вышел из себя:
— Черт побери! Жить. Разве этого мало? Я, старик, не доходяга какой-нибудь, я ввязался в эту кашу потому, что каждому охота жить сладко.
— Смотри не пересласти.
— Вот так раз! Я же не хапаю так, что другие из-за меня мрут с голоду, — на то есть монополии. Но я и не какой-нибудь чокнутый. Мне нравится такая жизнь: нынче здесь, завтра там. Поесть обалденной форели с двумя обалденными депутатами, а потом закусить ломтем сыра и запить стаканом вина в обществе неотесанного крестьянина. Хоть режь, старик, но нет у меня классового чувства. И те мне подходят, и другие меня устраивают.
Лали, орудуя вилкой и ножом, чистила принесенный официанткой апельсин. Неожиданно она уставилась на Рафу.
— Послушай, оболтус, — сказала она. — Если не хочешь испоганить нам праздник, не смей больше проезжаться насчет депутатов.
Рафа растерялся, потом, от души рассмеявшись, наклонился и чмокнул Лали в щеку.
— Ты обалденная, — сказал он. — Зачем же выставляешься, если не хочешь быть депутатом? Там человек двадцать было на это место.
— Я подчинилась, — сказала Лали. — Не думала, что это реально.
Виктор окинул ее критическим взглядом:
— А теперь все всерьез принимаешь?
— Все.
— И свое депутатство?
— Ну и что? Меня выставляют, и я ничего уже не могу поделать.
— С каких это пор?
— С каких надо, — отрезала Лали.
Подошла девушка. В столовой оставались занятыми всего два столика. Виктор сказал:
— Три черных кофе, пожалуйста. — А когда девушка повернулась, чтобы уйти, добавил: — И счет.
Рафа сказал:
— Лали, по-моему, прирожденная хозяйка дома.
— Слушай, кончай эти штучки.
— Я серьезно. Ты создана для семейной жизни. А я эту семейную жизнь в гробу видел. Меня на это не поймаешь.
Виктор изобразил изумление:
— Вот так раз! Значит, ты не пойдешь за меня замуж?
— Катись, ты мне вообще не подходишь. Ты старый перечник, представитель другого поколения.
— А что думает о жизни ваше поколение?
— Ну, во-первых, что дети — это занудство. Мы, молодежь, — новые люди, мы за противозачаточные средства, за аборт, за свободную любовь. Вот так.
Виктор глядел вдаль, на склон, поросший старыми дубами, взгляд у него стал отсутствующий, мечтательный.
— У меня нет семьи, но я в семью верю. — И добавил тише: — Может, потому, что у моих родителей жизнь удалась.
Рафа не унимался:
— Ты защищаешь семью, а ведь она в кризисе.
Виктор пятерней расчесал свою густую бороду.
— Ну и что? — сказал он серьезно. — Кино тоже в кризисе, однако я верю и в кино.
Рафа посмотрел на Лали, словно приглашая ее поспорить:
— Видишь, дорогая, к чему он клонит.
Лали тряхнула головой.
— Я уж лучше помолчу, — ответила она резко. — То, что я нарвалась на подонка, означает лишь одно: такие серьезные вопросы нельзя решать, как я, в девятнадцать лет.
Рафа взял ее за руку:
— А раз так — не будь недотрогой, поживи со мною месяц-другой.
Лали изобразила улыбку:
— Сто лет мечтала.
Подошла официантка, неся на тарелочке счет. Виктор взял счет, глянул в него и протянул девушке смятую бумажку в тысячу песет.
— Смотри, как дешево, — сказал он, когда девушка отошла. — Ели, ели, а наели всего на триста песет.
Он поднялся, смял в шарик бумажную салфетку и добавил:
— Не будем мешкать, до Куреньи недалеко, но кто знает, какая туда дорога.
В столовой еще сидели два усталых шофера, они курили и разговаривали вполголоса. Внизу, в баре, продолжали играть в карты и в домино, а по телевизору как раз закончилась передача на политические темы.
— Сегодня не Кантареро выступает? — спросила Лали.
— Он самый, — сказал Виктор. — А мы пропустили.
— Неужели вы бы стали слушать Кантареро? — удивился Рафа.
Виктор заметил:
— Думаю, было что послушать.
— Ну дает, чего там слушать! Он же фашист до мозга костей.
Небо по-прежнему было обложено, однако дождь не пролился.
Садясь в машину, Рафа предупредил:
— Нам еще надо заправиться.
Заправившись на краю селения, у старой бензоколонки, он проехал через мост, свернул влево на узкую неасфальтированную дорогу красновато-лилового цвета, всю в лужах.
— Вот она, чтоб ей было пусто!
— Ладно, успокойся.
Двигатель не тянул, и Рафа переключился на вторую скорость. Дорога была очень неровной и все время петляла. Машина подпрыгивала на ухабах.
— Повезет, и до снега доберемся, — сказал Рафа.
Они поднимались, и река внизу превращалась в зеленую блестящую ленту, темную на глубоких местах и белесую там, где, разбиваясь о камни, она вскипала пеной; на противоположном берегу из плотной зелени деревьев выныривали крыши Рефико, а иногда видно было, как старушка, маленькая и черная, точно жучок, перебиралась через грязную улицу. Рафа пригнулся к рулю и сосредоточился на дороге, безуспешно пытаясь не попадать в выбоины.
— Если и дальше такая, — сказал он, — средняя скорость будет километров двадцать, не больше.
— Поспеем, — сказал Виктор. — Собрание в Куренье назначено на пять.
Он вынул из кармана кассету и протянул ее Лали. Уселся поудобнее.
— Поставь эту, подходит к пейзажу, — сказал он.
Рафа глянул на кассету:
— Слушай, старик, только не это!
— А Куко Санчес тебе нравится?
— Обожаю! — отшутился Рафа.
Виктор сказал профессорским тоном:
— Вас, молодежь, от мелодии тошнит. Вы обожаете бессвязные звуки, потому что ваша страсть — все ломать.
Рафа снисходительно улыбнулся:
— Ты, конечно, перехватил, старик, но согласись, эта музыка — допотопная. Такое нравится моей матери.
— Твоя мама не такая уж старая, — парировал Виктор.
— Сорок пять! По-твоему, молодая?
Куко Санчес пел: «Гитары плачут, гитары». Рафа слушал и улыбался, покачивая в такт головой.
— Смерть мухам, — сказал он наконец. — Держу пари: Мария Долорес Прадера тоже в твоем вкусе.
— Конечно, — сказал Виктор. — А еще Баэз и Мачин, Пикир, Атауальпа и Ла-Туна.
— Хватит, старик, не продолжай! Я вижу, ты любитель муры.
— А чем плоха эта музыка? Да, мне нравится народная музыка. Она помогает сосредоточиться. Что же, значит, я реакционер?
Лали, молчавшая все время, заметила соболезнующе:
— Скорее ты просто сентиментален.
Виктор пожал плечами:
— Может быть.
Лали добавила:
— Слава богу, у тебя варит. — Она постучала пальцем по лбу. — Твое счастье.
Рафа наклонился вперед, к самым «дворникам», и посмотрел наверх.