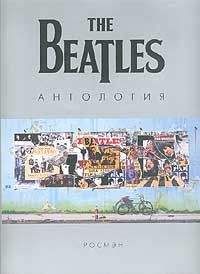— Ну, а как насчет RSVP?
Я высказал предположение, что выпускница Рэдклиффа вполне может составить маленький вежливый отказ без помощи специалистов.
— Слушай, Оливер, — сказала она, — возможно, я врунья и обманщица. Но я никогда никому умышленно не делала больно. И не думаю, что смогу.
Вообще-то в этот момент она причиняла боль мне, поэтому я вежливо попросил ее написать любой ответ, который она хочет, лишь бы из него ясно следовало, что скорее ад замерзнет, чем мы приедем. И вновь вернулся к «делу Персиваля».
— Какой у вас номер? — очень тихо спросила Дженни. Она стояла у телефона.
— Ты не можешь просто послать записку?
— Еще секунда, и я взорвусь. Какой номер?
Я сказал и тут же погрузился в чтение апелляции, направленной Персивалем в Верховный суд Соединенных Штатов. Я не слушал, что говорила Дженни. То есть старался не слушать — мы все-таки были в одной комнате.
— Добрый вечер, сэр, — услышал я. Сукин Сын сам подошел к телефону? Разве по будним дням он не в Вашингтоне? Так было написано в недавнем очерке о нем, который я прочел в «Нью-Йорк таймс». Нынешним журналистам грош цена.
Сколько нужно времени, чтобы сказать «нет»?
Дженни потратила уже гораздо больше времени, чем требуется, чтобы произнести это односложное слово.
Она прикрыла трубку ладонью:
— Ты настаиваешь, чтобы я отказалась?
Кивком головы я подтвердил, что настаиваю, а нетерпеливым взмахом руки велел ей поторапливаться.
— Мне очень жаль, — сказала она в трубку. — То есть я хочу сказать, нам очень жаль, сэр…
Нам? Меня-то зачем приплетать? И почему она не может просто сказать и повесить трубку?
— Оливер!
Она снова прикрыла трубку рукой и говорила очень громко.
— У него рана в сердце, Оливер! Неужели ты можешь тут сидеть, если она кровоточит?
Не будь она так взволнованна, я мог бы объяснить ей, что у камней нет крови и что она не должна проецировать свои итальянско-средиземноморские понятия о родительской любви на Рашморские скалы. Но она была очень расстроена. И расстраивала меня.
— Оливер! — попросила она. — Ну скажи ему хоть слово!
Ему? Она что, рехнулась?
— Ну хоть «здрасьте» скажи.
Она протягивала мне трубку. Стараясь не расплакаться.
— Я никогда не стану с ним разговаривать. Никогда.
— Я был абсолютно спокоен.
Тут она и заплакала. Неслышно, только слезы катились по щекам. Потом… Потом она стала умолять меня:
— Ради меня, Оливер! Я никогда ни о чем тебя не просила. Пожалуйста!
Трое (мне показалось, что отец тоже здесь) стоят и ждут чего-то. Чего?
Я ничего не мог сделать.
Неужели Дженни не понимала, что требует невозможного? Что я сделал бы для нее все что угодно, только не это? Я уставился в пол, упрямо качая головой и чувствуя себя очень неловко. И тут Дженни произнесла яростным шепотом слова, каких я от нее никогда не слышал:
— Ты просто бессердечный подлец, — сказала она. Затем завершила разговор с отцом:
— Мистер Баррет, Оливер хочет, чтоб вы знали: по-своему он…
Она остановилась, чтобы перевести дыхание. Это было нелегко, потому что она все еще плакала. Я был настолько изумлен, что молча ожидал окончания моего мнимого «послания».
— Оливер очень вас любит, — быстро проговорила она и бросила трубку.
Нет рационального объяснения тому, что я сделал в следующее мгновение. Это был приступ помешательства — больше мне нечего сказать в свое оправдание. Нет, не так: у меня вообще нет оправдания. Нельзя мне простить то, что я сделал.
Я вырвал у нее телефон — из розетки тоже — и в бешенстве швырнул его через всю комнату.
— Будь ты проклята, Дженни! Может, уберешься из моей жизни!
Я застыл на месте, тяжело дыша как зверь, в которого внезапно превратился. Господи, что на меня нашло? Я повернулся к Дженни.
Но она исчезла.
Именно исчезла — я даже не услышал шагов на лестнице. Наверное, она бросилась вон в то самое мгновение, когда я схватил телефон. Ее пальто и шарф остались на вешалке. Я не знал, что делать, но боль и отчаяние от этого были меньше, чем от того, что я уже сделал.
* * *
Я искал ее повсюду.
В библиотеке Юридической школы, пробираясь между рядами зубрящих студентов, я прошел зал из конца в конец не меньше десяти раз. Не проронил ни звука, но лицо у меня было такое, что я наверняка взбудоражил всю эту блядскую библиотеку. Наплевать.
Дженни там не было.
Затем я прочесал Харкнесс-Коммонс, холл, кафетерий. Очертя голову бросился в Агасси-холл в Рэдклиффе. Там ее тоже не было. Я кидался то туда, то сюда, и ноги мои не поспевали за бешено стучащим сердцем.
Может быть, она в Пейн-холле? Там внизу — комнаты для занятий фортепьяно. Я знаю Дженни. Когда она сердится, она садится и колотит по блядским клавишам. Допустим. А когда до смерти перепугана?
Эти фортепьянные классы — какой-то сумасшедший дом. Из-за всех дверей доносятся обрывки музыки — Моцарт, Барток, Бах, Брамс, — сливаясь в безумную какофонию.
Конечно, Дженни здесь!
Инстинкт велел мне остановиться перед дверью, за которой кто-то (сердито?) выколачивал из инструмента прелюдию Шопена. Я задержался на секунду, прислушиваясь. Играли плохо, то и дело сбиваясь и начиная заново. В одной из пауз чей-то женский голос пробормотал: «Черт!». Это, должно быть, Дженни. Я рывком распахнул дверь.
Сидевшая за пианино девушка подняла глаза от клавиатуры. Уродливая широкоплечая хиппи из Рэдклиффа, раздраженная моим вторжением.
— Что за дела, мужик? — спросила она.
— Плохие дела, плохие, — пробормотал я и захлопнул дверь. Потом я обыскал Гарвард-сквер, кафе «Памплона», аркаду «Томмиз» и даже Хейес Бик, где всегда толкутся разные типы с факультета искусств.
Куда же она делась?
Метро уже закрылось, но если она сразу пошла к Гарвард-сквер, то могла успеть на бостонский поезд. Еще была автостанция.
Было уже около часа ночи, когда я бросил четвертак и два десятицентовика в телефонный автомат. Я звонил из автомата на Гарвард-сквер.
— Алло, это Фил?
— Да-а, — сонно говорил он. — Кто это?
— Это я, Оливер.
— Оливер! — в его голосе послышался испуг. — Что-нибудь с Дженни? — быстро спросил он. Раз он меня спрашивает, значит там ее тоже нет.
— Да нет, Фил, с ней все в порядке.
— Ну, слава богу. А ты как, Оливер?
Убедившись, что с Дженни все в порядке, он сразу заговорил спокойно и приветливо. Как будто я не поднял его с постели посреди ночи.
— Отлично, Фил. Все нормально. Порядок. Послушай, Фил, Дженни с тобой общается?
— Мало, черт побери, — ответил он странно спокойным голосом.
— Что ты имеешь в виду, Фил?
— А то, что могла бы звонить и почаще. Я ведь ей не чужой, сам знаешь.
Если можно одновременно испытать облегчение и панику, то именно это я и почувствовал.
— Она сейчас с тобой? — спросил он.
— Что?
— Дай ей трубку, я ей сам скажу.
— Не могу, Фил.
— Она спит, что ли? Тогда не буди, не стоит.
— Ладно.
— Слушай, ты, засранец, — вдруг сказал он.
— Да, сэр?
— Скажи, неужели Крэнстон так чертовски далеко, что вы не можете приехать ко мне как-нибудь на воскресенье? Или, хотите, я к вам?
— Нет, Фил. Мы сами приедем.
— Когда?
— Как-нибудь в воскресенье.
— Только не надо мне мозги пудрить. Хорошие дети не говорят «как-нибудь в воскресенье», они говорят «в это воскресенье». Значит, в это воскресенье, договорились?
— Да, сэр. В это воскресенье.
— Только не гони, ладно?
— Ладно.
— И в следующий раз звони за мой счет, черт тебя подери.
Он повесил трубку.
Я остался стоять на островке света, затерянном во мраке Гарвард-сквера, не зная, куда идти и что делать. Неожиданно из темноты вынырнул какой-то чернокожий, поинтересовался, не нужна ли мне девочка или наркотик. Не очень сосредоточившись, я ему ответил: «Нет, благодарю, сэр».
Я больше не бежал. Какой смысл спешить в пустой дом? Было уже очень поздно, и я весь как-то онемел — больше от страха за Дженни, чем от холода (хотя погода была мерзкая). За несколько шагов до дверей дома мне показалось, что на ступеньках кто-то сидит. Померещилось, подумал я сначала — фигура казалась совершенно неподвижной.
Но это была Дженни.
Она сидела на верхней ступеньке.
Я слишком устал и слишком обрадовался. В душе я надеялся, что у нее есть в руках какой-нибудь тяжелый предмет, чтобы треснуть меня.
— Дженни.
— Оливер.
Мы говорили так тихо, что понять интонацию было невозможно.
— Я забыла ключ, — сказала она.
Я застыл на первой ступеньке, боясь спросить, сколько времени она просидела вот так. Я знал только одно — я страшно обидел ее.
— Дженни, прости меня. Мне так жаль.
— Не надо! — прервала она, а потом тихо сказала: — Любовь — это когда ни о чем не нужно жалеть.