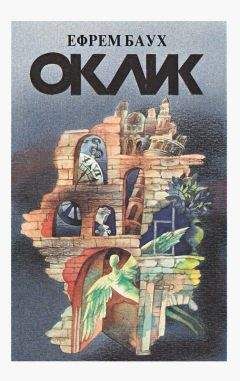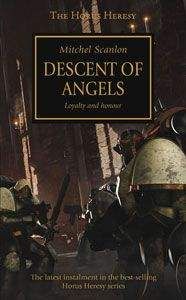Бегство через всю долгую жизнь.
На закате опять все в сборе за столом. Старик затевает разговор о тайной вечере, о причащении пищей, об изгаженном мире людей, по вине которых даже природа, девственная и цельная, съедена, залапана, испита. Если это и вправду так, что на старости возвращаешься к младенчеству, то старик впадает в детство: быть может, это выработавшаяся постоянная реакция на несбывшиеся желания жизни, в которой все его идеи, как и природа в шелушащихся, опаршивевших стенах городов, залапаны, уничтожены, испиты, переполовинены, и выходит жизнь его, столь страстно и справедливо претендовавшая на необычное, погибла среди поколений иуд и мерзости доносительства, и единственным спасением было – впасть в детство, чтобы выжить в кровавом лабиринте: нами же эта, похожая на детский лепет, непосредственность, воспринимается как сохранившаяся в старости свежесть чувств.
Мы сидим, замерев, представляя странное зрелище при лунном свете, и старик почти шепотом рассказывает о посещаемых им в юности спиритических сеансах, о столоверчении, о том, что он конечно же не верит всему этому, но вот же девушка одна умерла, и парень, который ее любил, ушел в леса, жил дикарем, зарос, потом вернулся, немного пришел в себя, и на спиритическом сеансе вызвали ее дух, и она заявила присутствующим, что была беременна, парень почернел на глазах: об этом знал только он один.
Надежда Васильевна, клятвенная атеистка, быстро уходит в палатку: от этих рассказов, как она говорит, ей становится дурно, тоскливо, как при наступлении обморока или предчувствии землетрясения.
Сергей Александрович посмеивается, говоря, что вовсе не грешно проявлять интерес к черной магии, и при свете луны видно, как он стар и каким замогильным холодом веет от его смеющегося старческого рта.
О Боге он предпочитает не говорить и этим напоминает провинившегося ученика, который знает, что чересчур частым употреблением циничных слов и курева потерял наивность восприятия, обоняния, осязания, – то, чем еще можно вернуть себе Его высокое присутствие.
Косвенно, не упоминая Его имени, он пытается всяческими уловками доказать, что Бог это порождение нашего страха перед смертью, но понимает, что наше одиночное существование на высотах, порождает думы о Нем.
На следующий день собираюсь назад, на Демерджи-Яйлу, ухожу на минуту за кустик; внезапно старик возникает рядом, в неизменной шляпе с пером: "Что, пугаете разбойников?" Застав меня врасплох, спрашивает в упор и в явно не подходящем месте, как учитель ученика, не очень-то верящего в его выкладки и доказательства:
– Вы верите в Бога?
Но тут возникают Богачев, Игнат, смеясь, перебрасываясь со стариком шутками.
Вопрос повисает в воздухе.
Спускаюсь в долину, иду по узкой тропе между двумя горами – Кудрявой Марьей и Лысым Иваном, поднимаясь в сумерки на знакомое плато, вижу вдалеке наши палатки, пустые, застегнутые: Толя уехал в Симферополь болеть за свою жену, поступающую в пединститут, и мне долгое время предстоит быть на горе одному.
Лежу в полнейшей темноте палатки, треугольник входа серебрится лунным светом, и в нем мерцает смеющийся старческий рот Ковалевского, за ним реют какие-то невнятные метафизические покровы мира, разрываемые сухими истлевшими ребрами, но все это оттесняется живой водой женских лиц – одна Валя сменяет другую, озабоченное лицо Надежды Васильевны растворяется в улыбке Беллы.
Юношеская тяга к метафизике – как оправдание стеснительности перед живой прелестью женщины.
Я погружаюсь в сон, как ныряю в море, я плыву, я стараюсь оторваться от кого-то, кто настигает меня – мой враг, мое сомнение, моя боль, моя женщина…
Да, это Белла…
Девочка, плыви назад, тебе нечего делать в этих гибельных водах, на этих разреженных высотах…
И ее виноватую улыбку относит течением в забытье.
Утренняя молчаливая молитва гор и моря: быть может, весь иудаизм – жажда перевести такое ослепительно-радостное утреннее пробуждение природы в чисто духовное переживание?
И я умываюсь холодной водой из бидона, пью чай, прочищаю горло блоковскими стихами:
Я встал и трижды поднял руки.
Ухожу один в маршрут, осененный какой – то девственной небоязнью, спускаюсь в обрывы, хожу по краям расселин, сплю, где меня застает ночь, насобирав опавшие листья, и вокруг меня все время стоит чистота, сухой и легкий воздух одиночества: оказывается, на высотах, где живут лишь орлы, можно ощущать себя по-домашнему.
Здесь и вправду иная жизнь, не смешиваемая с той, что внизу, и заброшенные в чаще источники под полугробницами-полуалтарями Ай – Андри и Ай – Анастаси – вот символы этой жизни, а не замызганные овечьим стадом корыта ниже по склону. Они хранят печаль вечности, эти источники, подернутые зеленой ряской, неподалеку от прозрачной, уже начинающей поигрывать своей мощной рясой вод, текущей между камнями Улу-Узень, и я подолгу сижу над струнным ее течением, и вокруг меня трепещут полуденные тени, таящиеся, юркие, прячущиеся с приливом солнечного света, как рыбы под камень, ящерицы в кусты, и мне так ясно в эти мгновения, что вся наша жизнь это игра в прятки с тенями.
Вода Улу-Узень чиста и сильна до того, что падающей своей струей сама себя вышибает из кружки, а прикоснуться к струе ртом и вовсе невозможно, и зной полдня и холод кинжальной струи в одиночестве гор обозначает удивительный миг в моей жизни, ее пик, безмолвие, печаль, ибо я знаю, что это уже никогда не повторится.
Меня не тянет вниз, в плоские долины жизни; в эти мгновения я точно знаю, что должен жить на этих высотах.
Сколько же мер свободы и одиночества будет мне еще отпущено в подарок до того, как снова окунусь в суету и мелочь, как окунаешься в воды у пляжа, в которых плавают окурки, бутылки и обертки; до того, как снова столкнусь с зеленщиками, которые оперными голосами выпевают свой товара, улыбаясь им, ты ощущаешь себя равно с ними ничтожным; до того, как вернусь в червеобразные ходы городских улиц, где обжигающее лезвие летящих сверху вод будет казаться сном иного мира, который уже в эти минуты гнездится во мне и устраивается навсегда памятью лучших мгновений жизни.
Никогда позднее пища, которую я сам для себя готовлю, не будет мне так во вкус и впрок, никогда позднее тело мое, круглые сутки пребывающее в одних плавках под солнцем и звездами, не будет таким неимоверно легким и сухим.
Иногда приходит пронзительное – от досуществования – чувство в лоне природы, приходит отгадкой самой жизни, которая зарождалась, обретала плоть, пульсацию и, оборвав пуповину, ушла в мир, но рубец обрыва ноет всю жизнь тягой возвращения в безбрежность бытия, а именно здесь, в горах, безбрежность ощущается особенно остро, ибо налицо, отчетлива, одинока, сокровенно прислушивается к самой себе; на миг ощущаешь возвращение к единому целому как некую репетицию последнего слияния, и нет в этом ни грана от смерти и тлена, и все же становится не по себе, и я начинаю суетиться, греметь бидонами, варить который раз макароны, заправлять их томатной пастой, чтобы услышать свое самое будничное присутствие в этом мире.
В одно из таких мгновений у палатки возникает существо с выгоревшими бровями, вихрами цвета соломы, с огромным рюкзаком, в панаме, как будто намеренно имитирующее Паганеля, по-хозяйски вторгается в палатку, сбрасывает груз на свободную раскладушку, с развязностью, явно не идущей его подслеповатому лицу, представляется бой ко Владленом Бой ко, ботаником, младшим научным сотрудником института.
– Вы, кажется, студент, э-э-э… Какого курса? – щурит он глаза с белесыми, словно сожженными ресницами и, кажется, собирается мыть ноги водой из бидона.
– Это вода для питья, – говорю я жестко, – а мыть ноги идут к речке, вон туда, километра два, или приносят сюда воду в ведре.
Вторжение это столь неожиданно и не то, что грубо, а до тошноты примитивно, как если бы в мир, живущий голосами и дыханием на уровне трав, вторглось животное, одним своим носорожьим существованием, вовсе без хруста и храпа, вытаптывающее этот мир, и я всю ночь ворочаюсь, а он спит как сурок, и я ухожу до рассвета с твердым намерением к ночи не возвращаться, а вернувшись на следующий день, нахожу все вещи в палатке переложенными, быть может, и перещупанными, и его, разложившего свои травки даже на моей раскладушке, напевающего себе под нос их названия, где среди латинских слов, щелкающих кузнечиками, неожиданно нечто слащаво-сентиментальное – "маргаритки, фиалки, анютины глазки" – странно, как шелуха семечек, слетающее с губ этого существа в панаме, похожего на несъедобный гриб, да, да, несомненно, больше всего мне неприятны грибы с их пористо-губчатыми, бархатно-гладкими ножками, похожими на срамную часть мужского тела, и живут они в сырости и мраке; и я уже тоже про себя напеваю – "поганки, Паганель, паганус[119]," я до того радуюсь найденному сравнению, что даже готов ему простить столь развязное вторжение в наше небольшое хозяйство, как вдруг, прервав свое мурлыканье, он спрашивает: