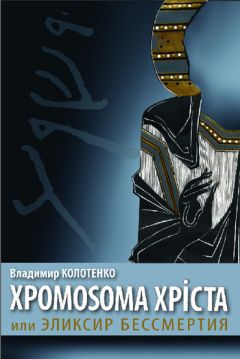– Смотри, – сказала Юля, – какая дымка!..
В Самадене (кантон Граубюнден) мы сняли комнату и, казалось, что спрятались от мира надежно: тишь, глушь, край мира… Наутро, чтобы совсем уйти от людей, мы решили покорить даже пик Кеш. До снега, казалось, рукой подать, но карабкаться по склонам, усеянным галькой, было не очень-то удобно: то споткнешься о выступ, то нога вдруг скользнет, ступив на камешек… Солнце уже взошло и стало теплей. Через час мы устроили привал в расселине Кеша, съели по бутерброду и выпили по стаканчику кофе.
– Кажется, в мире нет ничего, что могло бы тебе угрожать.
– Разве что только вот эти мелкие камешки, – согласился я.
Теперь было слышно, как они (потревоженные камешки), постукивая, катятся по склону.
Еще целый час мы добирались до снежной границы. Теперь перед нами был самый опасный участок пути. Приходилось ледорубом высекать в снегу ямки для ступней, шаг за шагом, я шел впереди, она следом…
Даже если оступишься – ничего страшного, склон не такой уж крутой, чтобы сорваться, можно ухватиться рукой за выступ скалы, за обнаженный корень кустарника или горного деревца, словом, никакой серьезной опасности не было. Кроме ветра. Кроме ветра, который здесь давал о себе знать резкими порывами и свистом в ушах. Мы достигли-таки вершины, когда солнце стояло почти в зените. Стало тепло, несмотря на ветер. Мы укрылись за валунами и так сидели плечо к плечу, одни в мире, наедине, в полной отрешенности…
Юля сорвалась на спуске. И дело вовсе не в порывистом ветре – соскользнула нога, я не успел поймать ее руку…
Я нес ее на руках до самого дома.
– Мне это очень нравится, – призналась она.
– Что?
– Ты носишь меня на руках.
– Мне тоже, – сказал я.
Тогда целых две недели мы провели в Швейцарии. Никто нас не преследовал, никуда не нужно было бежать…
Никто по нам ни разу не выстрелил. Казалось, повсюду горели маки…
– Маки?
– Казалось…
Но как быть с этим чувством удушающего одиночества? Ведь чувства никогда не лгут.
– Слушай, – говорит Юля, – где ты был? Аня звонила… Просила срочно перезвонить… Где ты был?
– Хорошо-хорошо, – говорю я. И выключаю телефон.
Вот пришла и эта победа, и еще один маленький успех. Огромный!
Этот танец может продолжаться вечно. И мы готовы наблюдать его до тех пор, до тех самых пор, пока…
– Как тебе? – обратился я к Жоре.
Он только повел плечом.
Какое-то время я еще продлевал наш всеобщий восторг, а потом, признаюсь, вдруг стал черств, безжалостен и несносен. Нам нельзя выбиваться из графика, ну никак нельзя. Нужно было брать себя в руки. К тому же все когда-нибудь да кончается. Я просто призван был разрушить (c'est la vie!) и эту радость, и принять на себя лавину укоров и разочарований, которая вот-вот накроет меня, как только я нажму красную кнопку. А что делать? Кто-то ведь должен и радости разрушать. Щелк! Теперь экран черен. Лавина несется мимо, и теперь…
Теперь дело за Аней!
Вперед, Анечка, вперед, родная!..
Теперь всеобщее внимание переключилось на Аню уже припавшую своими дивными серыми глазами к бинокуляру микроманипулятора.
– Вы все мне мешаете, – едва слышно сказала она, и этого было достаточно, чтобы мы тихим ручейком заструились за дверь.
– Реет, останься…
Я никуда и не уходил, сидел рядом на высоком табурете и смотрел на нее. Ее тонкие милые пальчики, я заметил, уже вращают рычажки его управления. Задача заключалась в том, чтобы из этих клеточек вытащить живые ядра и заменить ими ядра яйцеклеток. Это филигранная техника, которой, даже при огромном желании, упорстве и усидчивости, мог овладеть далеко не каждый, была доступна лишь тем, у кого наряду с терпеливостью и жаждой поиска был и божественный дар целителя. Целителя, врачевателя и, я бы сказал, сеятеля добра. Именно! Сеятеля тепла, света, чистоты… Мало было того, чтобы вытащить из яйцеклетки ее родное ядро, энуклеировать ее, нужно было, чтобы ядро клетки кожи нашего кузнеца прижилось еще в ней, пришлось ей, так сказать по вкусу и стало той завязью, которая, по нашим благим намерениям положила бы род новому клону. Здесь одного биополя было мало. Требовалась душа Ани, ее дух, умноженный на ловкость и ласковость ее рук. Это редкий дар избранных Богом, дар продвинутых и посвященных. Вот за этим-то даром я и гонялся по Парижу, по всему свету. Мало было овладеть только техникой, требовалось в эту яйцеклетку вместе с чуждым ей ядром вдохнуть еще и порцию жизни. Я волновался не меньше Ани.
– M'y voila![41] – сказала она, не отрываясь от бинокуляра, когда дверь захлопнулась, – я надеюсь, у тебя хватит мужества признать, что твоя Пирамида может и не состояться.
Я словно нырнул в ледяную прорубь! Я не знал, что ответить на эти слова, но, секунду подумав, сказал:
– Знаю.
Я знал только одно: Пирамида была вот в этих изящных пальчиках. Аня больше не сказала ни слова. Она продолжала работать, и я слышал только ее ровное дыхание. Когда все вскоре вошли, я только поднял руку вверх, чтобы они не шумели. Энуклеация яйцеклеток была простым и привычным делом.
У Ани не дрожали руки, и мне оставалось только следить за движениями ее нежных и уверенных пальчиков. Хотя меня так и подмывало вмешаться в этот порядок движений, хоть что-нибудь подсказать, поправить, помочь… Это как, сидя рядом с водителем, рассказывать ему, в какую сторону вертеть баранку или с какой силой давить на акселератор, чтобы ехать так, как тебе кажется нужно. Потом мы следили за тем, как на экране пульсировала новая жизнь.
Только часам к шести вечера, солнце уже пробивалось сквозь жалюзи с другой стороны комнаты, мы увидели на экране вполне жизнеспособную яйцеклетку. Она напоминала ленивую живую каплю масла, взвешенную в мутноватой слегка опалесцирующей воде. При большом увеличении можно было видеть ее возмущенную волнующуюся поверхность.
– Как…
– Как…
– Как…
Мы точно зачарованные смотрели на это чудо жизни, призывая всю свою поэтическую силу и мощь, чтобы не обидеть ее недостойным эпитетом.
– Как головка еще спящей, но и пробуждающейся Эриннии, – едва слышно, словно боясь разбудить Эриннию, прошептала Нана.
И все мы как по команде кивнули: да! Как головка!..
– Oh, isn't it lovely![42] – пролепетала никогда не видевшая яйцеклетку Кэмерон.
Для меня же впечатление было такое, будто уснувшую медведицу силой вызволили из глубокого плена сладостной зимней спячки, и теперь она готова выплеснуть нам все свое недовольство. Реснички трепетали, словно стебельки ковыля. Она была окружена мерцающим красновато-оранжевым ореолом. Яйцеклетка жила! Об этом свидетельствовали все датчики, следящие за ее метаболизмом. Кислород и АТФ, и ГТФ, и…
Мы сидели теперь в креслах, с наслаждением жуя бутерброды и потягивая кофе, запах которого нравился, видимо, и ей, и ждали только одного – перетяжки. В обычных условиях она появлялась через несколько часов после проникновения в клетку спермия. Мы же ускорили процесс созревания биополем.
– Ну же, родимая, – не удержался Стае, – давай быстрей!..
– Festina lente[43], – сказал Юра.
Желобок, образовавшийся по экватору зиготы, на наших глазах превращался в ров, словно тело нашей красавицы как раз по талии ловко заарканили лассо и затягивали до тех пор, пока перетяжка не разделила ее на две равные части – две клетки, из которых через известное время образовалось четыре…
– Как переспелая ежевичка, – сказала Янка.
Процесс пошел: морула, затем…
– Как ягода морошки, – сказала Тамара.
Стае со своими искусственными матками и плацентами, хорионами и пуповинами и всей своей плодоносной кухней едва поспевал за усердно работающей Аней. Глядя на нее со стороны, нельзя было ею не любоваться. Прежде, чем поместить свеженькую зиготу в стенку такой матки, Юра тщательно изучал ее, зиготы, жизнеспособность по сиянию ауры. Эти огромные клетки, хранящие теперь ядра наших первенцев, плыли по фиолетовому полю экрана, как путеводные звезды по вечернему небосклону, и мы, как волхвы, устремились за ними в неизведанный новый мир с огромной надеждой на наших глазах сбывающейся мечты. Юра и сам был заворожен таким необычным удивительным зрелищем, выглядел торжественным и счастливым. Все зиготы светились по-разному, и это было в порядке вещей – каждая несла свой, так сказать, запас индивидуальности, но все они светились, сияли, блистали во всей красе своими жизненными красками, кружась в своем первом вальсе, смеясь и сверкая. В этом празднике рождества новой жизни Аня безоговорочно преуспела. Это, несомненно, ее заслуга, что наши клеточки задышали, заговорили, отвечая на наши вопросы. Ее и только ее. Все это понимали и Аня, может быть, впервые за многие годы была горда тем, что стала причастной к деяниям мирового значения, о масштабности которых в тот момент можно было только догадываться. Так глаза ее не блестели ни в Париже, когда мы бродили по Булонскому лесу, ни в том далеком счастливом, сверкающем молодостью подвале бани, когда она была по уши влюблена в меня…