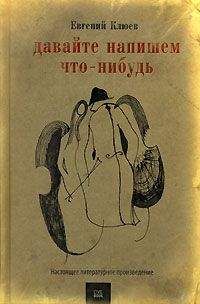– Из яичной скорлупы!
Тридцать девять кузнечиков своего счастья, незаметно поманив друг друга руками, отошли в сторону.
– Что делать будем? – спросили они сами себя и сами себе ответили: – Не знаем.
После этого полилога, имевшего вид диалога, они опустили тридцать девять взоров одному и тому же долу. Дол покосился на сторону.
Положение становилось остро критическим. В памяти тридцати девяти кузнечиков своего счастья было еще свежо впечатление от символической крови, которой они не видели в тридцатой главе. Но символическая кровь – это ладно: не видишь ее – и не надо: достаточно и обычной, которую тоже редко видишь, если ты, конечно, не серийный убийца. Однако не видеть того, что находится везде …
– Скажи, Кикимото, – с непередаваемой грустью обратились к брату тридцать девять кузнечиков своего счастья оттуда, где стояли, – может быть, у нас болезнь какая-нибудь… глазная? Вот уже второй раз мы замечаем, что не видим того, что видят другие. Первый раз это была символическая кровь Умной Эльзы… ты знаком с Умной Эльзой?
– Лично нет, но… наслышан.
– Ладно, первый раз – это было не так важно: без символической крови можно обойтись, а вот…
– Без символической крови обойтись нельзя, – перерубил предшествующее предложение, словно мерзкую гусеницу, Кикимото. – Без символической крови ничто не имеет смысла.
– Ты хочешь сказать, что без нее нас бы всех не было?
– Да нет, были бы… только в нас не было бы смысла.
– А он в нас… есть разве, смысл? – густо, как резиновый клей, покраснели тридцать девять кузнечиков своего счастья.
– Есть, причем много, – твердо ответил Кикимото и с грустью добавил в сердце своем: – Бедные, бедные заблудшие мои братья, чего бы я только не сделал для вас!
Вопреки его ожиданиям братья услышали сказанное им в сердце своем и поникли, как трава, по которой проехал бронетранспортер.
– Отчего вы так поникли? – бросился к ним Кикимото.
– Мы услышали, что ты сказал в сердце своем, – отвечали те.
Внезапно Кикимото начал прыгать и скакать, словно умалишенный. Это произвело на братьев впечатление несвоевременной и неуместной выходки.
– Перестань, – попросили они.
– Нет, не перестану! – с ликованием в голосе крикнул Кикимото. – Ибо дикая радость обуяла меня при мысли о том, что не совсем потеряны братья мои! Если вы можете слышать внутренним слухом, то и видеть внутренним зрением можете тоже.
– С чего ты взял, что мы можем слышать внутренним слухом? – подозрительно спросили тридцать девять кузнечиков своего счастья.
– А чем же еще вы услышали то, что было сказано мною в сердце моем?
Как ни старались тридцать девять кузнечиков своего счастья найти какой-нибудь другой ответ на поставленный перед ними вопрос, им это не удалось.
– Теперь вот что, – заторопился Кикимото, – теперь смотрите внутренним зрением!
Он выхватил из-за пояса дамасский клинок и направил острие в область сердца.
– Не смей! – бросились к нему тридцать девять кузнечиков своего счастья с намерением отдать жизнь свою за то, чтобы не случилось случающегося… – Сто-о-ой!
Однако сердце Кикимото было уже пронзено и истекало кровью. Тридцать девять кузнечиков своего счастья замерли в воздухе – и, казалось, умерли в воздухе. Кровь между тем текла не останавливаясь – жизнерадостной розовой струйкой бежала она по груди Кикимото, постепенно пропитывая белоснежную его рубашку. Старшему из тридцати девяти кузнечиков своего счастья стало дурно, и он рухнул на землю.
Уверенным, как ответ отличника на экзамене, жестом Кикимото остановил кровь и подбежал к рухнувшему. Провел ладонью по лицу его – и тот пришел в себя. Кикимото улыбнулся ему счастливой улыбкой и сказал остальным:
– Опуститесь же наконец и вы на землю, братья мои! Я жив, здоров и невредим.
Облегченно вздохнув, тридцать восемь кузнечиков своего счастья упали в траву, словно спелая гроздь винограда. А когда они снова поднялись и огляделись – везде, куда хватало глаз, простирался над ними и вокруг них Купол Мира… Купол Мира из тонкой до полной прозрачности яичной скорлупы.
– Между прочим, – с обидой сказали тридцать девять кузнечиков своего счастья, – никто и никогда не говорил нам о том, что в подобных ситуациях нужно использовать не внешнее, а внутреннее зрение. Если бы кто-нибудь объяснил это раньше, мы бы еще когда-а-а символическую кровь Умной Эльзы увидели!
– Только в этом случае вы не прилетели бы сюда и не увидели бы меня, – улыбнулся Кикимото.
На это тридцать девять кузнечиков своего счастья не нашли что возразить. Они глядели и глядели на сооружение невиданной красоты – Купол Мира, пока Кикимото не воскликнул:
– Хватит глядеть-то, а то дырки мне в нем проглядите!
Тридцать девять кузнечиков вздрогнули, словно проснувшись:
– Прости!.. Красив он, Купол Мира в сердце твоем.
Кикимото стеснялся, но был явно доволен произведенным впечатлением:
– Он еще и практичный очень: здорово температуру окружающей среды регулирует! Отец, правда, этим недоволен: или, повторяет, ты художник, или терморегулятор!
Тридцать девять кузнечиков своего счастья напряглись, как тридцать девять туристических палаток на восточном склоне горы. Отцовскую тему сыновья не любили.
– Нам наплевать, чем он доволен, чем нет! – грубо сказали они и отвернулись.
– Это не вы говорите! – воскликнул Кикимото.
– А кто? – с ужасом заозирались по сторонам тридцать девять кузнечиков своего счастья.
– Это мать наша в вас говорит.
– Чем же плоха мать наша? – беспечно спросили тридцать девять кузнечиков своего счастья.
– Всем хороша мать наша, только и отец наш не плох. – Кикимото взглянул в небо. – Он бог.
– Как бог он, может быть, и не плох, а вот как отец – ужасен, – не скрывая горечи, накопившейся за многие годы, застрекотали тридцать девять кузнечиков своего счастья. – Он ни разу не сводил нас в зоопарк, ни разу не был с нами на футболе, ни разу не купил нам мороженого…
– …но он хотел научить нас летать! И это благодаря отцу я смог построить Купол Мира в сердце своем.
Кикимото посмотрел на братьев – и ему стало жаль их. На их усталых лицах глубокими впадинами отпечатались лапы каждого зверя, которого они не увидели в зоопарке, подошвы каждого футболиста, чьему голу им не суждено было порадоваться, следы каждого мороженого, не съеденного в детстве…
– Когда ты в последний раз видел его? – хрипло спросили вдруг тридцать девять кузнечиков своего счастья.
– Вчера, – не солгал Кикимото. – Он проплывал по небу в окружении херувимов, которые пели:
Терморегулятор Кикимото
Человечество спасет от пота! –
А сам он при этом добродушно смеялся и махал мне рукой. Но в последнее время он редко проплывает смеясь. Карл Иванович, внутренний эмигрант, видите ли, окончательно распоясался: взялся Абсолютно Правильную Окружность из спичек на тот свет расширять – и теперь все мысли отца заняты тем, как нейтрализовать Карла Ивановича…
– Кто таков?
Кикимото охарактеризовал Карла Ивановича в предельно коротких и емких словах, употребить которые автор настоящего художественного произведения ни в жизнь бы не решился. Тридцать девять кузнечиков своего счастья крепко задумались: они все еще плохо представляли себе, что такое Абсолютно Правильная Окружность из спичек, но теперь уже хорошо представляли себе, кто такой Карл Иванович. И этот Карл Иванович им не нравился…
Так, задумавшись, и сошли они под землю вслед за Кикимото. А когда наутро из могилы, держа на сильных руках пятерых детей одинакового возраста, бодрым шагом вышла простодушная Пакита, тридцати девяти кузнечиков своего счастья не оказалось рядом с ней. И неудивительно: нашлось-таки, нашлось, чем заняться этим тридцати девяти, разлетевшимся по всему тому свету, над которым распростер свою жирную тень Карл Иванович, внутренний эмигрант, якобы стремясь задействовать мир иной в качестве одного из участков Абсолютно Правильной Окружности из спичек, но на самом деле приторговывая спичками направо и налево… Не знал он, что недолго осталось ему морочить мертвецов, как и того не знал, что с тридцатью девятью кузнечиками своего счастья шутки плохи.
ГЛАВА 36
Автор настоящего художественного произведения занимает критическую дистанцию по отношению к самому себе
Как, вероятно, уже поняли многие, автор настоящего художественного произведения – все-таки далеко не Гоголь. В этом, прежде всего, убеждает только что без сожаления покинутая нами тридцать пятая глава, в которой автор фактически разоблачает себя, показывая читателям, насколько он уступает упомянутому классику. В чем, спросите вы? Да хотя бы в том, что даже вставную новеллу как следует вставить в свое художественное произведение не может… Сначала (см. гл. 29) он хвастливо обещает читателю, что новелла эта не будет иметь ничего общего с художественным целым, в пространстве и времени которого мы находимся, и даже уподобляет данную новеллу зубному протезу, а потом вдруг ни с того ни с сего (см. гл. 35) возвращается к ней и органично встраивает ее в событийную канву романа!