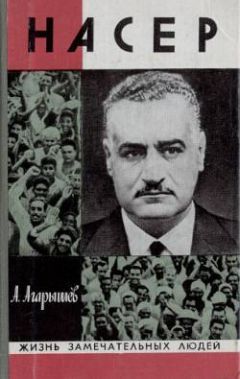А вон из тех кустов торчит ржавый столбик. Никто не знает, что он здесь делает, а Давид знает. Этот столбик – недокорчеванный остаток когда-то любимых и ненавидимых маленьким Довидом качелей. Давид обожал на них разгоняться так, что казалось – еще немного – и оторвутся от перекладины. Полет пьянил его, но одновременно чудовищный страх суровой ниткой накручивался в его душе на невидимое веретено. А причина была вот в чем: и сосед справа реб Нахман Вовси (впоследствии он был убит во время погрома), и сосед слева Хаджи Исмаил (впоследствии он убивал во время погрома) – оба, не сговариваясь, решили придать своим домам и дворам европейский вид и заказали кузнецу прутья ограды в форме острых копий. В результате всякий раз, когда Довид взлетал на качелях, в какую бы сторону он ни смотрел, эти копья повсюду подстерегали его, и он мысленно видел, как нанизывается на них, словно цыпленок на вертел.
Где бы, когда бы, куда бы Давид Изак ни шел, он всегда шел в Хеврон.
И вот три дня назад они вступили в Хеврон. В какой Хеврон? В тот Хеврон, где он вырос, в еврейско-арабский Хеврон, где светятся ешивы, в которых клокочет еврейская речь, прямая речь Вс-вышнего, увековеченная в томах ТАНАХа, Мишны, Талмуда, и где кипит арабская речь на пыльных базарах, в чаду кофеен, у жаровен, где шипит баранье сало, в пекарнях, шорных мастерских, лавках?
Этот Хеврон умер в тот летний день тридцать восемь лет назад. Умер вместе с его, Давида, родителями.
А в тот Хеврон, из которого он тогда бежал, Хеврон ненависти, Хеврон, гордо провозгласивший, что он свободен от евреев, за тринадцать лет до того, как то же стали делать польские и немецкие города, в тот Хеврон он уже возвращался в ияре пять тысяч семьсот восьмого года – мае тысяча девятьсот сорок восьмого, когда их везли по улицам, зашедшимся в вопле «Дир-Ясин!», и если бы не праведник в форме офицера Арабского легиона, оставшийся для него безымянным, смерть, не доставшая его в двадцать девятом, достала бы его теперь.
Итак, седьмое июня, двадцать седьмое ияра. Капитан Изак в составе танковой бригады «Харель» под командой полковника Ури бен-Ари входит в Хеврон. Это уже не тот и не другой, а третий Хеврон. Это Хеврон, где жители при виде вооруженных евреев трясутся от ужаса в ожидании мести за двадцать девятый год. И они правы. Если не считать единиц, таких, как Самира (интересно, жива ли она еще? Вряд ли), все остальные – сообщники. Их ненависть и равнодушие, трусость и тупость и стали тем черноземом, на котором распустил черно-красные лепестки Махмуд Маджали. Они просят простить их? Что ж, пожалуй, он, Давид, скривившись, зажав нос, простит. Пусть только не мешают сотвориться великому чуду – воскрешению истинного, еврейского Хеврона – города Авраама, города Давида – его, Давида Изака, и царя Давида, города, где со времен возвращения из Египта ни на час не прерывалось еврейское присутствие, пока не наступил проклятый двадцать девятый. Тридцать восемь лет еврейский Хеврон был мертв. Теперь же от Давида и таких, как Давид, зависело, воскреснет он или нет. При этом Давид ощущал, что речь идет не только о жизни Хеврона, но и о его собственной жизни. Он не мог без Хеврона. Предшествующие тридцать восемь лет были всего лишь ожиданием, подготовкой. Но было нечто, что примешивалось к радости и боли возвращения. Да, этим, которые посылают детей на улицы, чтобы они угощали наших солдат шербетом и фруктами, а при встречах жалко улыбаются и лепечут «Анахну ахим шелахэм!» – «Мы ваши братья!», он готов все простить. Но среди них, потомков Ишмаэля, как и среди других народов, черными семенами зла прорастают амалекитяне – потомки антинарода, чья суть – зло, чья суть – ненависть к Б-гу, чья суть – ненависть к народу Израиля. И один из таких ублюдков виновен в смерти родителей Давида. Так вот теперь, когда Давид с некоторой долей ужаса заглянул в себя, страшная картина открылась ему. Оказывается, неизвестно, что сильнее тянуло его в Хеврон – стремление вновь погрузить корни в ту жадную до крови и щедрую на жизненные соки землю, из которой его так грубо и беспощадно тридцать восемь лет назад вырвали и частью которой стали его отец и мать, или стремление по всем векселям заплатить мерзавцу, на руках у которого их кровь, сделать так, чтобы он прекратил поганить своим присутствием землю Хеврона, а своим дыханием – воздух Хеврона.
Из-за угла вышел худощавый араб в высоких стоптанных сапогах, белой шерстяной куфие и полосатом шерстяном халате. У пояса его болтался бурдюк с водою. Он направлялся в кофейню, судя по всему, выстроенную недавно – камень был еще белый. Над ней плыл сизый дым, и запах кизяка смешивался с запахом жарящегося мяса.
– Эй! – крикнул ему Давид.
Араб обернулся. На фоне светлого шейного платка его не очень даже смуглая кожа казалась почти черной. Однако рядом со жгуче-черными глазами она же начинала выглядеть ослепительно белой. Давид, широко расправив плечи, дабы не оставалось сомнений, кто здесь хозяин, поманил его пальцем. Незнакомец направился к Давиду. В нем чувствовалась какая-то агрессивность, и лишь когда он подошел поближе, стало ясно, что он страдает не агрессивностью, а эдаким агрессивным подобострастием, когда повелителя грубо отпихивают, чтобы вслед за тем улечься ему под ноги вместо коврика.
– Слушаю, господин! – сказал араб, поклонившись.
– Ты хотел со мною поздороваться, да? – спросил Давид по-арабски.
– Салям алейкум! – араб еще раз поклонился, чуть ниже, чем в первый раз.
– Вот и отлично... – за годы пребывания в иорданской тюрьме арабский, на котором говорил Давид, приобрел тамошний выговор и некоторые обороты речи. Впрочем, для хевронца иорданский арабский – это язык метрополии, и совершенно естественно, что новые хозяева говорят с ним именно на таком диалекте, а не на корявом жаргоне провинциального захолустья. – А теперь сообщи-ка мне, кто сейчас живет в этом доме.
– Этот дом сейчас принадлежит эффенди Махмуду Маджали. Он живет здесь вместе со своей престарелой матерью... Господин, господин, что с вами?
Да, в общем-то, ничего особенного с Давидом не произошло – разве что стал он цвета мелованной бумаги и закачался так, будто сейчас свалится, словно минарет во время землетрясения. Араб подскочил к Давиду и полуобнял его на случай, если тот потеряет сознание, и придется поддержать. При этом другой рукою он довольно ловко отцепил от пояса висевший там бурдюк с водой и, прижимая его к своему боку ладонью, развязал двумя пальцами горловину и протянул израильскому офицеру. Очевидно, араб только недавно набрал эту воду в каком-то из окрестных источников или в каком-нибудь колодце, потому что была она еще прохладная.
Выглотнув пол-бурдюка, Давид пришел в себя.
– Как тебя зовут? – просипел он, еще не восстановив окончательно силы.
– Айман Исмаил, – с готовностью отвечал хевронец.
– Вот что, Айман, – сказал Давид, выуживая из кармана гимнастерки кошелек и протягивая ему несколько пятифунтовых монет. – Спасибо тебе за то, что помог мне. Кем ты работаешь?
– Я безработный, господин, – Айман зачем-то еще раз поклонился. – У нас в Хевроне у многих нет работы.
«Все, как тридцать восемь лет назад», – подумал Давид. Вслух же он сказал:
– Зайди завтра на улицу Халид ибн Эль-Валид. Там наша военная канцелярия. Спросишь капитана Изака. Может, мне удастся найти для тебя какую-нибудь работу.
Айман рассыпался в благодарностях. Затем, почувствовав, что его присутствие начало утомлять офицера, еще раз низко поклонился и зашагал в кофейню.
* * *
Значит, вот оно как! «Убил, а теперь наследует»! Ну что ж, сейчас наступит то мгновение, ради которого стоило жить последние тридцать восемь лет, стоило вытерпеть и муки плена, и муки войны, и муки болезни. Отец, что чуть ли не каждый вечер бежал со своим чемоданчиком к очередному скоропостижно заболевшему, а сам вечно кашлял ветреными хевронскими зимами, приговаривая в шутку: «Конечно, после теплой России...» Мама, с ее постоянным шитьем, большая, добрая, похожая на крольчиху! Черноглазая Фримочка, которая сама чуть ли не больше родителей радовалась, что ходить научилась! Шмулик, часами рассматривавший аляповатые картинки в детском издании Пятикнижия, так что его силком приходилось гнать на улицу погулять со сверстниками! Сейчас вы будете отмщены. Давид распахнул калитку в каменной стенке примерно в две третьих человеческого роста и подошел к двери, покрытой орнаментом, напоминающим арабскую вязь. Когда-то на этом месте была железная дверь с квадратным окошком. Новая дверь тоже была железной, только окошко теперь было, как и сама дверь, стрельчатым.
Он подошел к арабской двери и с размаху пнул ее ногой. Как живую. Но дверь была заперта. Он замахнулся и со всей силы врезал по двери кулаком. И еще раз! И еще раз! Так, будто перед ним ненавистное лицо Махмуда Маджали. Он сорвал с плеча «узи» и передернул затвор. Вот сейчас дверь распахнется, и...