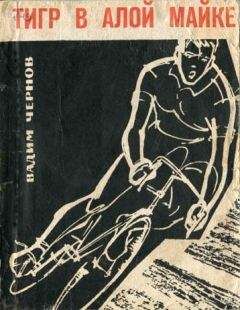Весело взвизгнувший маневровый дизелек бодренько растолкал товарные вагоны, и перед нашими окнами через два пути открылись теплушки времен двух мировых войн: неотесанная поперечная балка у отодвинутой двери, умятая солома на полу. На керамзитовой насыпи играла детвора, словно стая воробьев купалась в пыли. Вдоль ржавого полотна парами и поодиночке степенно прогуливались взрослые — целая деревня на вечернем променаде. Мужчины сразу потянулись к нашей секции с ведрами за водой.
Я не был приспособлен к оседлой жизни: ездил по свету, зная, что вернусь в мир величиной с булавочный укол на географической карте, — на стене вместо обоев, — в салоне Деда. Скитальцам знакома меланхолия Чичиковых, Егорушек, Мартынов. Их удел — вечный подвиг, в смысле — движение, и созерцание бесконечной дороги. Однообразные, похожие одна на другую станции и полустанки! Сонмища людей за окном вагона. У всех них такая разная и такая похожая жизнь.
Отправляясь в командировку, я уже мечтал о возвращении домой, как о возвращении на необитаемый остров, и понимал — дома мне нет приюта. Я не знал, куда применить силы, — человек без талантов, но с большим самомнением. И не хотел признаться себе, что просто напросто тоскую без Иры! Хоть в дороге, хоть дома!
После командировки, не заезжая домой, я отправился в отпуск на море.
На краю поселка Сычавка под Одессой в ведомственном лагере бывшего завода отца, — здесь нашу семью издавна чтил бессменный заведующий, — я провел два месяца. Дюжина крытых жестью и безлюдных бунгало. Нескошенные газоны с колючей травой и головешки сгоревшей столовой придавали этому месту печальный вид. Бледная дымка над лазурным морем — тогда оно кажется выше берега у горизонта; ослепительное солнце, до того яркое в чистом небе, что его лучи стрелами протягиваются к золотистому отсвету на воде; черные спички рыбацких сетей поперек залива. Когда задувал северный ветер, всплывали прозрачные медузы, похожие на грязные куски желе в прибрежной тине, и ледяное море дышало, как живое. Косматые бурые тучи тащили мелкий бредень дождя над черными волнами в пенистых бурунах. А багровые зарницы беззвучно освещали глубокие овраги и оспины на воде. В такие дни с козырька над верандой шумели водопады. Море приподнималось, слепо шарило в темноте и тяжело падало ничком. Погожими вечерами я выходил на пляж смотреть на огни кораблей на рейде. Противоположный берег подкрадывался в ночи и замирал до утра, чтобы тихо растворится в рассветной дымке. Крошечные рачки карбункулами тлели на влажном песке. Злющие комары звенели и сопротивлялись ветру, который относил их в камыши.
На отдыхе я наблюдал «семейное счастье», без которого так «страдал».
Через перегородку поселились трое: он, она и трехлетний изверг. То и дело избалованный ребенок воплями оповещал мир о своих исключительных правах. Каждый миг двух взрослых людей подчинялся крошечному зверьку с примитивными рефлексами. На веревках поперек веранды неизменно сохли женские бюстгальтеры и загаженное детское белье — разноцветнофлажковый салют сухопутному мореману, продубленному степными сквозняками. Мосластый парень в джинсовых шортах и футболке, — отец! — иногда приходил ко мне покурить. Он виновато присаживался на ступеньки, поминутно вздыхал и думал. Его жена, плоскогрудая и с таким выражением на лице, словно она в голове решала теорему Ферма, присела с нами лишь раз, затянулась и вдруг навострилась, словно гончая, на звуки из комнаты, где спал ребенок. На пляж — днем, и в кафе или на аттракционы в поселке — вечером они конвоировали свое чадо. А ребенок не обращал на родителей никакого внимания, как не обращают внимания на вышколенных болванчиков в услужении. Мне кажется, за две недели эти двое ни разу не проскрипели в обоюдном ритме панцирной кроватью. И как–то ночью отчетливо, словно молодые лежали со мной в обнимку, услышал раздраженное ворчание женщины:
— Этот комар не даст нам спать! Убей его! — Неловкий охотник звонко хрястнул газетой по стене. И еще раз. — Что же ты делаешь, сволочь! Ты же разбудишь Андрюшу!
Это — «сволочь» настолько возмутило меня, что я избегал супругов.
Другие представители семейного мира явили свой вариант идиллии, золотой, платиновой или бриллиантовой (здесь я обыгрываю разновидности свадеб): с годами возраст — величина относительная. Московские профессора, заслуженные старички, прибыли на отдых по приглашению друзей одесситов. В тот год сбережения граждан уравняли цене тарелки борща в общественной столовой, и пансионаты для ученых стали дороги. Маленькая старушка личиком и фигурой напоминала шуструю цирковую мартышку в шляпке и платьице. Старушка выпустила замечательное жизнеописание Булгакова. Старичок, долговязый и сухопарый, в панаме с вислыми полями, походил на бледную поганку–переростка, и в России его имя — едва ли не баронского звучания Риткарт — было более или менее известно каждому более или менее грамотному человеку, а за границей оно, кажется, даже упоминалось с кафедры. Это был тип ученых тупиц, открытый Чеховым: работали супруги, судя по их рассказам, от утра до ночи, как ломовые кони, читали массу даже здесь на отдыхе, отлично помнили все прочитанное, но кругозор их был тесен и ограничен специальностью. На их ученых именах были темные пятна — в том смысле, что оба активно интересовались политикой. Женщина, разновидность тупиц — всезнайка, искала популярности в полемике со мной и неизменно спрашивала: «Почему за двадцать лет вы не выучили язык народа, среди которого живете?» Говорила она с вызовом и подергивала из стороны в сторону шеей, словно кобра перед броском. Я не без издевки поведал ей о приятеле: за пятнадцать лет жизни в Германии тот не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одной немецкой газеты или книги и никогда не чувствовал ни малейшего неудобства от незнания немецкого языка. (Женщина так и не поняла, что я говорил о Набокове!) Пояснял: в школе нас учили национальному языку всего сорок пять минут в неделю, а в детстве одной любознательности для изучения чужой культуры недостаточно. Потом, по моему убеждению, если литературные памятники, основные носители традиций языка, не стали эталоном мировой культуры, а лишь подражают уже написанному, нужно ли корпеть пусть над блистательными, но копиями с оригиналов, над туземными письменами?
Женщина обвиняла меня в великодержавном шовинизме.
Чтобы не участвовать в споре, мужчина в сторонке пролистывал книгу.
Они поминутно ссорились и мирились. Женщина горячилась, словно убеждала с кафедры неподатливую аудиторию. Мужчина бледнел, с тяжелым вздохом говорил «да!» и поднимался. Жена глядела ему в спину и семенила следом. Тогда он останавливался, в ритм слов рубил воздух указующим перстом, и дальше они под руку обсуждали что–то.
Как–то ночью женщина тревожно пробарабанила в мою дверь:
— Александру Ивановичу плохо! Саша, вы бы не съездили за врачом?
Я отдал коменданту ключи от машины: он лучше знал округу. Мы остались с больным. Женщина держала его за руку. Профессор сосал валидол и храбрился. Тогда я вспомнил опять же из Чехова, что можно быть тысячу раз знаменитым героем, которым гордиться Родина, твое имя могут произносить с благоговением и узнавать на улице, но, когда наступит предсмертный миг, только один человек разделит одиночество и тоску, как он делил с тобой жизнь. Кто–то из этих трогательных стариков закроет другому глаза. Перелистнет их последнюю страницу.
Я застеснялся своей сентиментальности и вышел перекурить. Через минуту женщина притулилась рядом.
Где–то играла музыка, словно монотонно вколачивали гвозди. Голубые звезды дрожали в теплом воздухе. От тихих голосов с пляжа становилось особенно одиноко.
— Александр Иванович заснул. Он боится умереть во сне и не простится со мной. — Она шмыгнула носом и махнула пальцем у глаза, утирая слезу: уголек сигареты описал замысловатый зигзаг. — Ничего, Саша, идите спать…
— Я постою с вами. Вдвоем легче. Обойдется, Маргарита Эдуардовна…
Женщина утвердительно кивнула.
Врач порекомендовал профессору избегать солнца.
Я разнообразил досуг. Ловил бычков. Нащупывал на мелководье под камнем скользкую шуструю рыбешку, крепче хватал ее, прижимал к валуну и подбирался к жабрам. Иногда попадались ратаны матерые, маслянисто–черные: хвост из кулака свисал ниже запястья. В Одессе возле парка им. Шевченко я набрел на ресторанчик в полуподвале: предисловие к меню уведомляло, что пятисоттысячного посетителя бархатно–розовых полуосвещенных сводов будут кормить здесь всегда бесплатно. Из динамиков, замурованных в стены, заструилась «Калифорния» «Иглз», и со всех сторон прошелестели шепотки узнавания. Я вспомнил новогоднюю ночь и наш с Ириной бесконечный танец под финальный перелив гитары: тогда кто–то несчетно ставил песню, пока ему не крикнули «Хватит!».

![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](https://cdn.my-library.info/books/130171/130171.jpg)