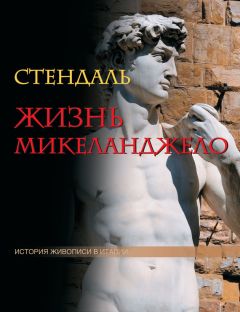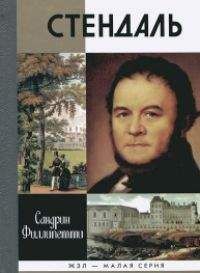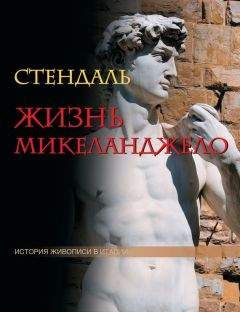«Похоронную я получила в Новосибирском райвоенкомате. Там написано: „Умер от ран“. Место похорон не указано».
«Да, первую похоронную мне легче было пережить. Я была молода, и время было другое. Война была. Эти похоронные – письма – мне пришлось пережить труднее. Но зато все знаю. Как говорят, пусть лучше горькая правда…»
«…и еще напишите, как туда проехать. Думаю, что я буду там, привезу горсточку земли и захороню на могиле воинов-сибиряков, где горит Вечный огонь».
«Посылаю Вам самое дорогое, которое хранила много лет, за которым трудом я его видела в мирное время. Он занимался все свободные часы и по ночам. И вот, уходя на фронт, он оставил мне это все. Посылаю Вам его труды и фотокарточку…»
* * *
Человек смотрит на меня с довоенной фотографии. Серый костюм с острыми лацканами, белый крахмальный воротник плотно облегает шею.
Человек смотрит в упор, как смотрел когда-то в черный глазок объектива в каморке фотографа. Как смотрел потом в лицо смерти.
Лицо крупной лепки, выпуклый, умный лоб. Рот с поднятыми уголками – рот оптимиста. И хотя взгляд суров, общее впечатление доброты, надежности, силы.
Этот человек знал и любил лес. Даже этот коварный топкий северный лес, его глухие непроходимые дебри, угрозу голодной смерти он предпочел рабству.
Из концлагеря он бежал не один. Такие, как он, никогда не бывают одиноки. Люди тянутся к тем, кто сильней духом. Он был не один, когда замыслил побег и выполнил его. Он был не один в камере смертников и там, у берез, где враги расстреливали советских партизан и военнопленных. С ним были его товарищи. Фамилия одного – Корнилов. Другой остался навсегда безымянным…
* * *
Передо мной лежит черная коленкоровая папка. На ней вытиснено:
«Массовые и сортиментные таблицы для березы и липы. 1940 г.»
Эти таблицы прислала мне вдова Липина, Анна Дмитриевна:
«Не сочтите за труд, перешлите мне все это обратно, что мне так дорого»…
Читаю отзыв на таблицы, составленные Липиным. Из него узнаю, что Липин проделал огромную работу, составив за два года таблицы по выходу деловой древесины, ничуть не уступающие, а в чем-то и превосходящие по точности таблицы Анучина, о которых Липин не знал. А если учесть, что в своей работе Анучин опирался на труд трех профессоров, то масштаб самостоятельной работы Липина предстанет во всей полноте и силе.
Из отзыва:
«Необходимо заметить, что само построение таблиц (форма) значительно удобнее для практики, чем таблицы „Союзлеспрома“, так как тов. Липин сконструировал их не по бонитетам (разрядам), а по диаметрам и высотам, независимо от бонитета…»
Из отзыва:
«Если т. Липин предполагает усовершенствовать свои таблицы, то ему следует рекомендовать…
Консультант-рецензент Федоров. 4 октября 1940 г. г. Куйбышев». * * *
Что ожидало Липина в будущем? Такие, как он, не отступают. Упорный, склонный по натуре к исследовательскому кропотливому труду, он должен был стать ученым…
Из письма Прилукина:
«…фото и личные вещи – ценные экспонаты для музея. А экспозицию мы сделаем…»
Отныне каждого, кто переступит порог Олонецкого музея, встретит строгий прямой взгляд Николая Липина. Человека, выбравшего свободу. Человека, не сломленного врагом. Сюда будут приходить колхозники из Туксы, и учителя из Видлицы, и лесорубы из Верхнего Олонца. И звероводы, и солдаты…
И каждого, кто сюда придет, остановит строгий взгляд в упор. Взгляд, где за суровостью – доброта, надежность, сила.
И долго, может быть дольше всех, будут смотреть в глаза героя олонецкие мальчишки.
Но все это потом. Завтра утром, еще при звездах, мы с Нонной покинем этот милый северный город. Мы поедем вдоль нитки Олонки, и где-то она оборвется наконец и отстанет, а мы будем ехать лесным коридором мимо строгих елей и мелких березников. И выйдет солнце, снег будет искриться под солнцем, слепить глаза. Первый мороз застеклит озера, отольет причудливые безделицы из чистого прозрачного льда по берегам Пряженского озера. Останется позади деревня Половина, и забрезжит впереди Петрозаводск…
И вот я снова в Москве. Как будто и не уезжала никуда. Только лежит на тумбочке похожий на гигантский кленовый лист рог лося – подарок Прилукина.
Это был лось-шестилеток. О, это совсем просто – определить возраст лося. Говорят, что к числу отростков надо прибавить два в уме – до двух лет лоси безроги. А у дерева за год прибавляется новое кольцо…
Нет, это только кажется, что я никуда не уезжала. Олония вошла в мою душу, легла новым кольцом вокруг прежнего, пережитого.
1969
Вот и знакомые деревья!
Они первыми встречают нас у лесной дороги, ведущей к поселку. Простоволосая береза, такая белая среди смуглых, словно от загара шелушащихся сосен. Они встречают нас каждый раз, выйдя для этого к шоссе, к остановке автобуса и синей будочке ГАИ.
Посланцы нашего леса, стройно темнеющего там, за поляной.
Здесь и Пять братьев – сосна с пятью разветвлениями, идущими от одного ствола. Теперь их четверо, – от пятого остался только срез, нечто вроде культи, поднятой на двухметровую высоту. Случилось это давно, в какой-то тяжелый для дерева год, – ведь и у деревьев бывают тяжелые годы.
Остальные четверо бодры и здоровы. Общий ствол придает им чувство единства, редкое для сосны.
В соснах есть какое-то одиночество, замкнутость. Даже когда их много и они растут близко. Возможно, это протяженность стволов, возносящая вершины высоко в небо. Или чувство неповторимости, отсутствие побегов.
– Сосна от пенька не растет, – сказал мне как-то знакомый лесничий. – Береза растет, осина тем более…
И мне тогда подумалось, что это достойно стать пословицей: сосна от пенька не растет…
Мы живем в маленьком поселке между лесом, рекой и городом. Бетонированное шоссе, или попросту бетонка, отделяет город от заповедных лесов. Возле будочки ГАИ недавно поставили светофор. Всего несколько шагов на зеленый свет – и перед глазами возникает табличка: «Заказник. Хождение с ружьем и натаска собак запрещены». И уже пахнет маслятами, свежей сыростью и хвоей.
Наш поселок лежит между светофором и лесничеством. Можно сказать и так. Он вырос после войны.
Заборы здесь низкие, редкие. Вдоль них зеленая изгородь кустов, рыжие гроздья рябин. Вишни и яблоки в садах и за пределами, просто на улице.
Наш сосед – на стремянке, с солдатским котелком через плечо – обирает вишню. Ругает воришек воробьев.
В поселке много стариков. Они встречаются по дороге к продуктовому ларьку, обмениваются приветствиями. Хромые, кривые, безрукие – ветераны войны и труда. Ветераны жизни. Авторы этих садов, их воспитатели.
Сад требует терпения. А молодежь уже на машинах. Спешит жить. И сын своего отца под вечер заливает бензин в собственный «Москвич» – новой модели – и громко поет от избытка жизненных сил: «Я встретил вас, и все, так сказать, былое…»
И молодая соседка с ребенком на руках отчужденно смотрит, как он возится у машины и минуту спустя уже мчит по дороге к городу, пугая пестрых породистых кур…
Да, нелегко это все завоевано – и яблони за окном, от которых днем в доме темно, и писк ласточек в небе, и солнце над головой…
В жаркий полдень скинет человек рубашку – и обнаружатся невзначай его шрамы.
Мы приехали сюда в душный день в конце мая. Ехали на двух машинах, – мы, женщины, на «Победе», мужчины стоя в грузовике, среди вещей и узлов. Главной их заботой был шкаф с зеркальной дверцей. Шкаф этот все пытался завалиться то на один бок, то на другой. Впрочем, пока что он все же ехал. В зеркальной дверце кое-как, наспех отражались кучные облака, телеграфные столбы, кривые тополя, шиферные крыши и скворечни.
Было за полдень, когда наш кортеж свернул с главной магистрали на лесную дорогу. Воздух вокруг темнел, сгущался, и как-то особенно резко белели березы по сторонам.
Мы выехали к реке, к перевозу. Здесь так же резко, как только что березы, белела в грозовой темноте церквушка. Потом зеркало как будто раскололось, отразив ломаный зубец молнии, свалился гром и покатился над рекой с тем особым глухим стуком, какой придает грому вода. Посыпал крупный дождь.
Машина уже въехала на паром, но надо было ждать, – станция отключила ток на время грозы. В грузовике нашлась клеенка, и мужчины укрылись ею.
Я смотрела сквозь поднятое стекло на незнакомый город за рекой, смутно видйевшийся издалека. Был хорошо виден только большой барский дом с колоннами, и деревья старого парка, и белая ограда…
Потом я узнала, что дом с колоннами принадлежал некогда Ивану Лажечникову, автору «Ледяного дома». Книгу эту я прочла в отрочестве, и она произвела на меня впечатление таинственное и тревожное, какое впоследствии произвели, пожалуй, лишь две книги: «Великий Гетсби» и «Большой Мольн». Осталось воспоминание о цвете, о чем-то ярком, темно-красном, как бархат или густое вино. Возможно, краски цыганки, ее колорит, придали роману этот горячий тон, столь противоречащий названию.