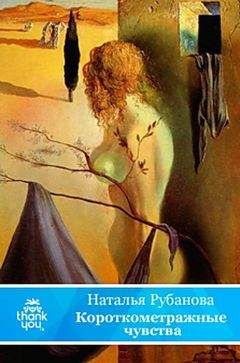Делаю вид, будто не знаю.
«Заведи себе нормального мужика с машиной, вот что, — девушка спрыгивает с кровати и бежит ко мне. — Разве не идиот?»
Я останавливаю хождение по мукам:
— Ну, хочешь, выйдем опять на поверхность, я тебе кремик куплю с плацентой — вон у тебя сколько морщинок под глазами, а тебе еще столько на…
— Может, не надо? — жалобно просит она, перебивая.
— Чего — не надо? — не понимаю.
— Ну «столько» — не надо, а? Мне бы одного недеревянного. Не надо «столько», а? — она смотрит совсем уж затравленно и становится похожей на лису, жмущуюся к полу в клетке, около которой прыгают охотничьи собаки. Я надуваю воображаемые губы:
— Что-то уж совсем примитивно… Неужели и ты — как все? Какого Хендрикса нашего Джима я тогда девятый раз воплощаюсь? Ты должна быть независима! Должна! У тебя вообще все с головой в порядке или нет? — визжу я. — Ты думаешь, тебе баксы с красивой мордой просто так даны, да? А насчет остального? — я визжу все сильнее.
Девушка смотрит отстраненно: с лица ее отваливается страдальческая маска, глаза загораются, на щеках появляются ямочки. После неожиданного преображения она сильно трясет меня за воображаемые плечи, берет за шиворот и закладывает под каблук: мое воображаемое горло оказывается сдавленным более чем реально.
— Ну, ты, это… отпусти, — хриплю. — Я все сделаю.
Она как-то недоверчиво смотрит на меня и медленно, по слогам, произносит: «Все ОНИ, всег-да, со-ве-то-ва-ли за-вес-ти мне нор-маль-но-го му-жи-ка. Я за-во-ди-ла разных, а од-наж-ды за-ве-ла му-жа. Те-пе-рь слу-шай: ка-ко-го Хенд-рик-са на-ше-го Джи-ма ты де-вя-тый раз воп-ло-ща-ешь-ся, амоз-говуте-бянепри-бав-ля-ет-ся? Ка-ко-го Бил-ла на-ше-го Гейт-са пос-ле э-то-го тре-бу-ет-ся не-де-ре-вян-ный? Ка-ко-го та-ко-го ве-сен-не-го ме-ся-ца Ни-са-на ты во-об-ще тут виз-жишь?» — после этих слов она ослабляет нажим, начиная пахнуть сандалом еще более вызывающе.
Ей-ей! Я вылезаю из-под ее каблука озадаченная и слегка помятая. Мы встаем, «приглаживаемся» и выходим на улицу как ни в чем не бывало. Там встречает нас Лето, спрашивая:
— Как вас зовут?
Мы отвечаем хором.
— Какое красивое имя! — говорит Лето. — Вы, должно быть, уже раскручены?
— Отчасти — да, — улыбаемся мы и даем Лету в бубен, чтоб оно не задавало лишних вопросов.
— Ой-ой-ой, как больно! Как неприятно! Как пошло! — а мы бьем Лето в бубен, несмотря на его крики, еще и еще, сильней и сильней.
Мы избиваем Лето до полусмерти, находя наконец-то крайнего. А когда оно, похотливое, с потными ладонями и подмышками, издохло-таки, мы успокоились и решили заняться верховой ездой: «xyli, по субботам!»
— Ты хочешь сказать, тебя еще плющит? — взвизгнула Душа моя в последний — девятый — раз.
— Нет, нет, что ты… — я улыбнулась: я никому теперь не была ничего должна.
Стеклянный, оловянный, деревянный
После того как от меня ушла Катерина — ушла окончательно, не забыв ни зубной щетки, ни розового масла, — я сел за кухонный стол и, обхватив руками голову, втянул в легкие воздух.
— Ну, ушла и ушла, — думал я, — в конце концов, сколько можно уходить?
Я выдохнул и открыл холодильник: водка была неприлично-привлекательно ледяной.
Я взял стакан и налил «Смирновской»: прозрачная жидкость легко стекала по нёбу в желудок, делая мысли такими же прозрачными и не имеющими веса.
После второго открыл огурцы. Мне казалось, будто этикетка надо мной смеется, поэтому пришлось отвернуть ту мордой к стенке — так ее «смех» звучал не слишком громко.
— Ну и что, Андрей Андреич? Что ты теперь собираешься делать? — спросил я сам себя, хрустя огурцом и строя самому себе рожи.
А действительно — что?
Катерина ушла. Не забыв ни зубной щетки, ни розового масла. В конце концов, сколько можно возвращаться, и должно же это когда-нибудь закончиться?
Закончилось.
— А ничего. Ничего, брат Андрей Андреич, ты делать не будешь, — я налил третий, хлопнул.
Этикетка продолжала смеяться над моим бутылочным отражением. Я почесал затылок и, покачиваясь, пошел в комнату, где и рухнул на кровать с твердым намерением больше не пить с утра. А проснувшись в мятых джинсах и с не менее мятым лицом, решил, что и с вечера тоже: будя. Ведь, в сущности, не так уж и важно, где сейчас Катерина…
Месячный запой завершался.
Надо было себя как-то вытягивать, но уши уже порядком болели, а мюнхгаузеновской косички не наблюдалось. Я начал сдуру бегать по утрам; занялся новым портфолио и проч. От Катерины не было ни слуху ни духу — точнее, слабый такой «слух», будто она живет на какой-то даче; позже — опровержение информации. Но я этим не запаривался — я где-то даже был рад, что она ушла: по крайней мере перестал залезать в долги и думать над каждым сказанным словом. Теперь, правда, не с кем стало разговаривать — теперь я молчал, разбавляя пустоту фоном пустотелых фраз, доносящихся из телевизора; а друзей у меня, в общем-то, не было. Да и с Катериной мы последнее время почти не разговаривали — она приходила очень поздно, очень долго лежала в ванной, очень долго курила. В постели же мы отворачивались друг от друга и засыпали: это-то после года жизни вдвоем! Весьма странной, надо сказать, жизни… Катерина приходила и уходила. Уходила и возвращалась. Я «фоном» включал телевизор, «фоном» ходил на работу, «фоном» читал. Пил. Потом стал равнодушен ко всему; ничто не прошибало.
Любил ли я ее? По-своему — да. Но ей всегда казалось, будто «мало» или «как-то не так». К тому же меня-то она точно не, в чем однажды и призналась. Ампутировав мою способность так чувствовать если не навсегда, то на неопределенный промежуток времени.
А благодарность — да. Испытывала. За терпение. За быт устроенный. За деньги, чего уж там… Потом возненавидела. По-пьяни призналась однажды, что хотела меня убить — даже обдумывала варианты: ей от этого легче становилось. Потом — истерики. Через день. Ей потому что некуда было деваться. И в смысле жилья тоже. Все равно ей было уже, Катерине… тогда.
Но хорошо, что так. Что расстались. Что нашел Женщину-Ребенка. Женщина-Ребенок никогда не хотела убить меня. Или, по крайней мере, никогда не говорила об этом.
Она была так непохожа на Катерину. И все же…
Я встретил ее на улице. С букетом — привет сентиментальному жанру! Женщина-Ребенок улыбнулась, взяв цветы безо всякого кокетства, и задала вопрос глазами.
Пригласить ее сразу к себе я посчитал полным свинством: раньше мы общались исключительно по работе — Женщина-Ребенок сидела в соседнем офисе и «общалась с клиентами» на, как она сама говорила, убогие темы, волшебным образом превращая их, впрочем, в менее скучные.
Мы пересекались периодически лишь «в интересах фирмы», и дальше этого не шло: к тому же я еще жил — если это можно назвать жизнью — с Катериной. Но Женщина-Ребенок с грустными глазами будила во мне что-то, не поддающееся логике. Что-то необъяснимое.
Я знал: она живет одна. Иногда ее одиночество прорывалось. Но она не кокетничала и вообще достаточно хорошо скрывала свое ко мне отношение. Я удивлялся, почему у нее никого нет — обычно таких быстро «разбирают», как любят теперь говорить.
А потом уволилась. Оставив на память неизвестное направление ветра — книжку Павича. Мне понравилась история о Гере, а о Леандре — нет.
Собственно, я и не собирался ее искать! Мало ли… Но отсутствие — ощутил.
Мы много разговаривали — в основном о дисках и книгах: она слушала Маккартни и почитывала Фаулза с «первым» Мураками; это мне нравилось. Мне она сама, в общем-то, нравилась. Но не более того. Я и не думал, будто у нас может что-то получиться. Хотя… что значит «не думал»?
После ухода Катерины, запоя и идиотичных утренних пробежек я понял, что начинаю плесневеть. В самом прямом смысле: продукты в холодильнике — и те плесенью покрывались. «Пенницилировали», так скажем, и мозги.
В один из таких вот чудеснейших моментов я и затеял уборку. Ползая с тряпкой (даже швабра сломалась), я наткнулся на маленький сиреневый прямоугольник, подернутый паутиной. На пыльной визитке грустновато улыбался e-mail Женщины-Ребенка. В тот момент мне казалось, будто я потеряю ее окончательно, если не сделаю хоть что-нибудь сам. Не долго думая, я включил компьютер. А включив, написал хоть и банальное, но все же не дурацкое письмо. Ваше сообщение отправлено…
Я щелкнул ОК и закурил, хотя почти не курю: я не отдавал себе отчета в последствиях подобного эпистолярия и поэтому слегка дергался. Это на меня не похоже — по крайней мере Катерина всегда считала мое «эго» непрошибаемым.
Я смял сигарету и подошел к книжной полке — на ней стоял как томик рассказов «первого» Мураками, который я забыл вернуть Женщине-Ребенку, так и сборник Павича; еще один, старый, как мир, повод встретиться. Перелистывая страницы, я наткнулся на историю, которая почему-то особенно тронула Женщину-Ребенка — «Ледяной человек». Несмотря на одно «н» в прилагательном, человек этот оказывался, так скажем, ментально привязанным к исключённым из правил «оловянному» и «деревянному». Но не к «стеклянному» — у «стеклянного» был какой-то свой, совершенно особый, «бьющийся» менталитет: черт знает что, в общем…