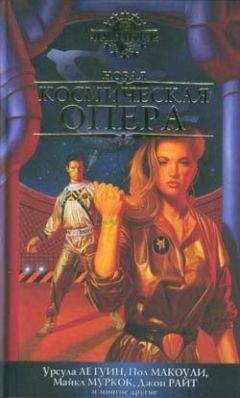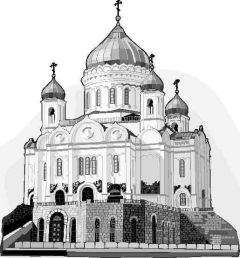– Вы ведь священник? Ну вот, видите, я угадал. И придут к вам в один прекрасный день, и возьмут под белы руки, и поведут… какая там у вас роща? Юмашева?
Отец Александр кивнул.
– Вот-вот. Именно в эту Юмашеву рощу вас, раба Божьего, отведут, польют свинцовым дождичком и закопают. Как сказано у пророка Исаии: «…за преступления народа Моего претерпел казнь». А у вас, поди, жена, детки… Эх! – Он скорбно вздохнул.
– Не может быть все так безнадежно.
– И еще хуже! – радостно воскликнул Голубев-Мышкин. – И никто не поможет. А кто, в самом деле? – вкрадчиво спросил он. – Извне? Англичане? Уже было. Уплыли, не солоно хлебавши. Немцы? Они сами на ладан дышат. Французы? Кишка у них тонка. Американцы? Да им наплевать. Им лишь бы денежки были. Наши, русские? Да вы что! – искренне удивился он. – Семену Ильичу они все в рот смотрят. Нет, мой дорогой, незадача приключилась с Отечеством нашим у Господа Бога. И раньше – в колокола звонили, а народ гноили. Моего прадеда – того вообще на костре сожгли. За чернокнижие, – не без гордости сообщил сотрудник «Молота». – Библию вместе с Квирином Кульманом читал и сам ее толковал. А теперь… Теперь сплошная безбожная пятилетка и Соловки в придачу. Я-то, Александр Иоаннович, – для чего-то оглядевшись, шепнул Голубев-Мышкин, – по чести говоря, думаю, что истинный Бог в наших бедах совершенно не виновен. У вас в поэме местечко есть, вы там высказываете робкое такое сомнение в отцовских чувствах Вседержителя и предполагаете, что у Него помимо Иисуса Христа есть еще Сын, а может, даже и не один. Правильно я говорю?
– Я как бы вскользь… Мимоходом. Вообще-то я об этом не хотел и даже запрещал себе, но как-то само собой написалось… Когда в печать пойдет, я уберу.
– В печать?! – приспустив добролюбовские очочки на кончик носа, Голубев-Мышкин устремил изучающий взор на о. Александра.
– Ну да… в печать… – ежась и пряча глаза, забормотал тот. – А что? Почистить что-нибудь… Я не против. Вы мне укажите, я сделаю. Или вы как редактор… – Он набрался, наконец, отваги взглянуть на молодого человека, и его сердце тотчас рухнуло в холодную пустоту. Трясущимися руками он извлек из коробки папиросу и закурил, не спрашивая разрешения. – И вы, значит, тоже…
– Александр Иоаннович! Дорогой мой! Вы в Юмашеву рощу не торопитесь, и меня за собой не тяните! Нате-ка, – он протянул о. Александру рюмку. – Считайте, что это лекарство, спасающее нас от безысходной печали. Выпьем теперь за Россию – но с упованием, знаете ли… Ах, дивное какое слово: упование… Слышите ли вы в нем, мой дорогой, отголосок пронзительной скорби? нежности? печали? последней надежды? любви?
– Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, – едва слышно откликнулся о. Александр.
– Да будет вам с вашей Богородицей, – легко отмахнулся сотрудник «Молота», сразу же вступая в законное владение наследством сожженного прадеда. – …с упованием, что если будет когда-нибудь третье – после описанного вами – пришествие, Россия не отправит Христа на расстрел. А второй Сын… – махом проглотив водку, начал он, но о. Александр его перебил.
– Второй Сын – это ересь. У меня от глубокого отчаяния… От невозможности найти устраивающее мою веру и мой разум объяснение происходящему! А у вас гностицизм какой-то. И с Богородицей вы нехорошо… Она через Христа всем нам Мать! Она за нас молитвенница, сокровище наше чистейшее, всех страдающих прибежище, Она купинá неопалимая, нам Спаса родившая…
Но Голубев-Мышкин его акафистом пренебрег.
– Второй Сын – но и от Отца второго, причастного к творению материи, то бишь – зла. Первый, собственно говоря, как вечное, вневременное и абсолютное начало вообще ни в чем не участвует. И третий Сын – уже от третьего Отца, который есть порождение второго и который куда более повинен в создании материи и связанного с ней зла. И уже в конце всей цепочки, – с увлечением высказывался молодой человек (не забывая при этом опрокинуть рюмку), – является действительный Творец этого мира. Он, разумеется, Бог. Но от Бога истинного, Бога света, добра и милосердия Он отдалился настолько, что не считает Себя связанным с Ним какими-либо узами. Больше того – Он даже враждебен Тому, Кто стоит над всем и всеми, и, возможно, именно поэтому отворил злу дверь в наш мир, нашу жизнь.
– А Сын? – от новоявленного Маркиана у о. Александра голова пошла кругом. – Христос в таком случае – чей Сын?
Сотрудник «Молота» задумчиво пережевывал последний ломтик сала. Порешив с ним, он бросил несытый взгляд на опустевшую тарелку и ощутил легкий укор совести. Сам съел, а гостю не оставил.
Какие причины побудили его совершить столь неприглядный поступок?
Сорокаградусная в количестве шести рюмок, емкостью пятьдесят граммов каждая, и ни граммом меньше, ибо собственноручно наливал себе до краев и пил до дна. Шесть помножить на пятьдесят – триста граммов, не столь уж малая доза, требующая равновесия в виде плотной закуски.
Занимательная беседа, в ходе которой были обсуждены как творчество Александра Иоанновича Боголюбова, священника, прибывшего из провинции с весьма достойной в литературном отношении, но, без сомнения, попадающей в индекс нежелательных для печати вещей поэмой «Христос и Россия», так и вопросы, по своему содержанию исключительно умозрительные, что в общем и целом побуждало выпивать и закусывать, не думая о симпатичном, неглупом, однако наивном посетителе. Известно ли, к примеру, ему, что в Совдепии ныне запрещены: Платон с его «Диалогами», Кант с его «Критикой чистого разума», Владимир Соловьев с его «Оправданием добра» и, наконец, сам Лев Николаевич со всеми его религиозно-нравственными сочинениями, о чем имеется секретное постановление тайной большевистской комиссии?
Несомненные логические затруднения, преодолению которых должны были бы способствовать отменная водка и превосходное сало, полученное позавчера в обмен на три фунта гвоздей, выданных на заводе «Красный металлист» в качестве оплаты за руководство литературным кружком означенного предприятия. Ибо если Христос – Сын первого Отца и в таком случае имеет законные права именоваться Светом от Света и Богом истинным от Бога истинного, то какова тогда роль остальных Богов и рожденных ими Сыновей? Какова, самое главное, роль последнего Бога, Творца материи и связанного с нею зла? Можно ли допустить, что Христос – Его Сын, которого Он отправил на крестную смерть, движимый (изъясняясь антропоморфически) чувством раскаяния за горькую судьбу возникшего в акте творения человечества? Или же Создателю бренного сего мира раскаяние незнакомо вовсе, и воспитанный Им Сын не таков, чтобы по доброй воле взойти на Голгофу? Подобный поворот мысли может привести нас к выводу, что в конце концов состоялось непредусмотренное вмешательство абсолютного Бога в земные дела и последующее принесение в жертву агнца-Христа, закланного во искупление наших бессчетных грехов. Однако возможность такого вмешательства влечет за собой бесповоротный крах изложенного Александру Иоанновичу Боголюбову представления о мироздании.
Erste: неизбежно следует решительное устранение непосредственного Творца материи и зла.
Zweite: столь же неизбежно возлагает на истинного, самодостаточного, вне времени и пространства, а также вне категорий добра и зла пребывающего Бога всю ответственность за грязь и кровь, от века сопутствующую нашей жизни.
Dritte: наглядно показывает трагическую тщету избранного Им в высшей степени благородного и со всех точек зрения отчаянного и последнего средства остановить язы́ки, племена и народы, неуклонно скатывающиеся в пучину греховной мерзости.
Утративший веселье, обаяние молодости и на глазах о. Александра превратившийся в сумрачного человека средних лет сотрудник «Молота» выпил седьмую рюмку, занюхал ее хлебом и объявил, что на вопрос Александра Иоанновича ответа у него нет.
– Чей Сын Христос? – задумчиво повторил затем он и после краткого размышления молвил: – А Бог Его знает, чей Он Сын. Лев Николаевич утверждал, что незаконнорожденный, и все тут. Ни архангела, ни Духа Святого – а просто-напросто вне брака зачатое и рожденное дитя.
Отец Александр взял свою рукопись и вышел, не прощаясь.
Из Красноозерска хозяин понурой лошаденки и разбитой телеги, тощий мужик с полуседой бородой, недельной щетиной на впалых щеках и черной ямкой на месте правого глаза, едва прикрытой верхним веком, повез о. Александра домой, в град Сотников. Положив чемодан и заплечный мешок в устланную прошлогодней соломой телегу, о. Александр пристроился рядом с хозяином, на облучке, и первое время боролся с острым желанием пристально заглянуть в бездонный, как ему мерещилось, провал, в котором некогда блистало, смеялось и плакало живое око. Но после двух бессонных суток, проведенных в битком набитом, смрадном вагоне, голова его стала клониться на грудь. Он мгновенно засыпал, просыпался от очередного ухаба и затуманенным взором окидывал родные места. Лес тянулся по обеим сторонам – мелкий лиственный молодняк по обочинам, за которым далеко вглубь видны были мачтовые сосны с янтарно-желтыми стволами. После нового толчка о. Александр ошеломленно вскидывал голову, видел поле, уставленное освещенными клонящимся солнцем тускло-золотыми стогами, деревню с высоким «журавлем» над колодцем, мучительно-долго вспоминал ее название и версту, наверное, спустя припоминал: Кротово. Ах, да. Кротово. Двоюродная тетка покойной матушки, Александра Гавриловна, прожила здесь свой век, а теперь лежит на погосте, под старой березой. С Петром и Николаем приезжали ее отпевать. Во блаженном успени-и-и, ве-е-чный покой… Колька, душа пропащая, никак не хотел петь «Непорочны». Этакий псалом здоровый, куда ей! А мне надрываться. …подаждь, Господи, усопшей рабе твоей Александре и со-отвори ей ве-ечную память. Он, может, теперь в том доме страшном с башенкой наверху и часами. Блажени непорочнии… Все непорочные из моих щипчиков причастие принимают, строго сказал о. Александру вышедший из леса косматый старик. И протянул корявую руку с зажатой в двух сучьях сосновой шишкой. Рот свой давай открывай! От Пана великого сподобишься приобщиться частичкой жизни новой. Благословляю спариваться кому как нравиться. Пола нет, есть ярость плоти. Дуй куды хочешь. «Я в этом совершенно была уверена!» – воскликнула Пышкина и что есть мочи разинула свой толстогубый, широкий рот. Старик довольно кивнул. На тебе папиросочку. И для дружка возьми. Вместе покурите на ложе любви. А для этого поэта папирос у меня нету. Какую он чушь сочинил, верно, чадо Израилево? «Вы совершенно напрасно, – забормотал Краснуцер, тоскливо озираясь по сторонам. – И даже оскорбительно для меня это обращение по национальной принадлежности, у нас упраздненной. И в Евангелии, по-моему, тоже… Я точно не помню, но там, кажется, сказано, что нет никакого различия между эллином, то есть древним греком, и иудеем… Не стану скрывать: в младенчестве я подвергся обрезанию… Отсутствие у меня крайней плоти есть акт религиозного фанатизма моих родственников, папы и мамы, и в особенности дедушки со стороны папы, Моисея Израилевича, собственными руками навострившего нож и совершившего эту ужасную вивисекцию над моим крошечным, нежным и совершенно невинным пенисом. – Поспешно извлеченным из кармана брюк платком он осушил выступившие на глаза слезы. – Что же касается поэмы товарища Боголюбова, то в ней действительно имеются недостатки…» – «Недостатки! – презрительно фыркнула Пышкина. – Он поэтический кастрат, вот он кто, ваш Боголюбов! Вам обрезали крайнюю плоть, а ему отхватили ядра!» – «…но вместе с тем, – тянул Краснуцер, – она не лишена известных достоинств. Главное не в этом. – Геннадий Маркович тревожно оглянулся. – В конце концов, в литературе… э-э-э… не так уж много примеров абсолютного совершенства. Главное – политические обстоятельства. Они… э-э-э… не благоприятствуют. Для Бога… – он поежился, будто от холода, – нет места в нашем государстве, ибо… ибо…» – «Вот и я говорю! – перебил его Голубев-Мышкин. – Зачем, говорю, вам, почтеннейший Александр Иоаннович, спешить в Юмашеву рощу, под свинцовый дождичек? Да и со Всевышним, правду говоря, далеко не все ясно, что косвенно подтвердил своей поэмой наш автор. Ведь подтвердил?! Подтвердил?» – с этим вопросом веселый молодой человек подступал к Боголюбову, отец же Александр, отстраняясь от него, валился во внезапно открывшуюся позади пустоту.