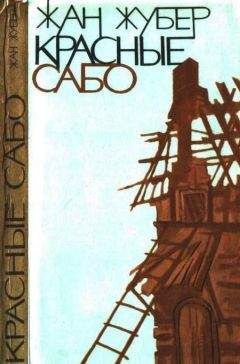Появлялся в мастерской возчик, который, привязав лошадей во дворе, входил, чтобы немного согреться, опрокинуть стаканчик и побеседовать. Он чистил о каменный порог свои сабо, облепленные грязью, посылал плевок в кучу опилок, и спор разгорался с новой силой.
Дед был неистощим. Читать он не умел, но многого поднабрался от «политиков», которые временами появлялись в деревне, и это как бы заменяло ему образование. Они приходили и стучали ему в окошко: «Мне дал твой адрес Унте ль». — «Ага, ну давай входи!» Кто только не перебывал у него: бродяги, ясновидцы, пророки, а иногда и обыкновенные жулики. Они запросто располагались в его мастерской, спали на тюфяке в углу, ели за четверых и сеяли светлые мысли. Жорж внимал им, разинув рот и глядя как зачарованный на мечущиеся в полумраке руки и бороды. Потом, в один прекрасный день, они исчезали так же неожиданно, как пришли, оставляя после себя брошюрки, отпечатанные на грубой бумаге, подписанные Бакуниным, Кропоткиным, Жаном Гравом, Эрве, — отец недоуменно вертел их в руках, а сын тайком прочитывал.
Вечером в мастерской, когда сосед и возчик усаживались вместе с отцом у печки, мальчик слышал от них те же самые слова, что и в брошюрах, и, по мере того как пустела бутыль, голоса собеседников становились все возбужденнее, а глаза блестели все ярче.
Наконец кто-нибудь из них предлагал:
— Ладно, чего там. Пошли в кафе, тяпнем по стаканчику?
— Ей-богу, верно!
И отец кричал Жоржу:
— Кончишь мазать, иди ужинать. Не забудь только лампу погасить!
Они уходили. Жорж прислушивался к их затихавшим на улице шагам, он сидел один в тишине мастерской, вдыхая запах стружек. Он грезил о свободе, братстве, анархии, потом, чувствуя голод, вновь лихорадочно принимался мазать сабо. Закончив работу и задув лампу, он возвращался домой, с тревогой думая о том, что отец, наверное, не вернется сегодня ночевать и опять им придется долго ждать его, а потом терпеть ругань и побои.
Я представляю себе, чем было кафе для людей, прикованных к этой серой земле: местом, где за бутылкой и горячими дискуссиями они позабывали гнет убийственно однообразных дней и ночей. Хоть здесь, пусть ненадолго, они могли собраться все вместе, поговорить, посмеяться, и в них рождалась вера, что они вырвутся из тисков нищеты и в один прекрасный день начнут новую жизнь. В конце концов хозяин, зевавший у себя за стойкой, выпроваживал их на улицу, где они вновь увязали по щиколотку в грязи. Тогда они принимались по очереди заходить друг к другу, напиваясь все сильнее и сильнее. Близился рассвет. Они забредали в чужие дворы и мочились на яблони. Они шагали, во всю глотку распевая «Интернационал».
Собаки надрывно лаяли в сараях, серенький рассвет просачивался меж холмами, начинали кукарекать петухи. Именно в этот предрассветный час, когда последние ночные тени еще мешаются с клочьями тумана, дед переживал тяжелые, горькие минуты, возвращаясь домой с гудящей головой и пересохшим горлом. Развеивались без следа иллюзии шумной ночи, и он вдруг испытывал одно отвращение и угрызения совести и понимал, что нет надежды на спасение. Я спрашиваю себя, не напоминали ли ему белые стволы берез, лежащие на полу мастерской, трупы, в такое вот утро?
Потом в один прекрасный день дядино терпение лопнуло. Ему восемнадцать лет, ему не сидится на месте. Серая деревня, туман, крики и ругань отца в мастерской, пьянство, нищета, слезы — все это душит его. Он задыхается. Он решает уехать. Однажды вечером, после ужина, он кричит: «Я уезжаю!» Отец в бешенстве вскакивает, обзывает его бездельником, предателем, канальей. Они перебрасываются оскорбительными словами, мать плачет. Потом страсти понемногу утихают. Отец мрачно осушает бутылку, сидит, положив локти на стол. Жорж обещает вернуться. Через год, самое большее — через два. Он хочет побродить по Франции, посмотреть страну и людей. Потом все ложатся спать.
Наутро он уходит, перекинув через плечо узелок. В нем его жалкая одежонка, бритва, роман Золя и несколько брошюр. Он выходит из деревни на рассвете и идет на юг. Добирается до Боса, здесь ему дышится легче. Весна зеленеет в молодых всходах полей, звенит в трелях жаворонков. Он ночует в канавах или в заброшенных сараях, не осмеливаясь приближаться к богатым фермам, где крестьяне злы и круты и не задумаются натравить на него собак или жандармов.
В Туре «мать-башмачница» дает ему приют и пропитание. Эта усатая черноволосая толстуха знает всех и вся. Так, например, ей известно, что в Анжере на башмачной фабрике требуются рабочие. Целых три недели дядя работает там, выдалбливая сухие, твердые, как железо, деревянные чурки и получая ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Потом работает в Шоле, Ниоре, Сенте, Бордо. Он долбит и строгает, строгает и долбит, постигая секреты и тонкости ремесла. По воскресным дням он пытается, правда без особого успеха, приобщить нескольких забитых и грязных сотоварищей к идеям революционного социализма, а также пробует свои силы в другой области: становится чемпионом по шашкам среди завсегдатаев кафе бульвара Карно. В этой компании пьяниц он, как святой среди грешников, капли в рот не берет. Воспоминание об отце навсегда отвратило его от рюмки.
В Сен-Круа-дю-Мон, на Гаронне, он задержался немного дольше, так как хозяин оказался славным малым, к тому же дяде приглянулась дочка трактирщика. Описание ее красоты, которое он дает в своих мемуарах, волнует и мое воображение: высокая брюнетка в черной блузке, с точеной фигуркой, с пышными кудрями и голубыми глазами. Она кокетничала с ним напропалую, строила ему глазки, но, как я догадываюсь, любовь их так и осталась целомудренной, ибо дядя предпочел с самого начала «поднять ее на пьедестал». Таким образом, она становилась неприкасаемой, и, я думаю, дядя не был недоволен этим обстоятельством: теперь он мог беспрепятственно боготворить ее. Я, однако, сильно подозреваю, что девица была весьма вольного нрава. Когда бы дядя ни пришел, у дверей кабачка, по его словам, «обязательно уже торчал какой-нибудь юнец, поджидая ее, чтобы потискать, если только я не заставал ее в обнимку с другим. Она позволяла ухаживать за собой и обнимать себя всем без разбору, конечно, это далеко не заходило, но меня беспокоило, что я не единственный ее воздыхатель».
И однако, несмотря ни на что, именно она преподносит ему цветы и целует под аплодисменты собравшихся, когда он совершает свой подвиг башмачника. Приняв вызов, брошенный газетой «Птит Жиронд», он на деревенской площади, раздевшись до пояса, двенадцать часов подряд со свирепой решимостью выдалбливает целую гору сабо и удостаивается награды в сто франков и восхищения своей милой. Его выбирают королем праздника, который длится всю ночь и весь следующий день. Но успех не вскружил ему голову. В конце концов он вырывается из этих краев и вновь пускается в путь, обещая вернуться. Но вернется он только двадцать лет спустя, уже женатый, и приедет вместе с женой, но так и не отыщет следов той, непозабытой. Моя мать, родившаяся как раз во время этой его любви, носит ее имя.
Потом он побывал в Тулузе, Монпелье, Марселе, Авиньоне, Лионе. Он шагает медленно, с частыми остановками, среди палящей жары южного лета; а когда солнце жжет совсем уж невыносимо, забирается в сосняк и дремлет там или рассматривает букашек. Все интересует его, все восхищает. Вот одна такая сценка, очень трогающая меня, которая великолепно его характеризует: «Я следил за пауком, снующим в своей паутине, где временами запутывалась мушка, к которой подбирался ее кровожадный враг. Но вмешивался я и осторожно разводил их: „Ты, паук, возвращайся в свое убежище под листья, а ты, мушка, мной освобожденная, лети-ка в небо и отплясывай там себе сколько хочешь свою сарабанду!“»
Ну как тут не вспомнить дядюшку Тоби из стерновского «Тристрама Шенди», которого дядя наверняка не читал.
Добравшись до Парижа, он попадает на представление ростановского «Орленка» с Сарой Бернар, чьи талант и молодость ослепляют его. Но при этом он успевает разглядеть в партере весьма рискованные декольте нарядных дам и крахмальные воротнички господ, «всех этих паразитов!». Сам он, разумеется, сидит в райке, среди «простого народа».
После Парижа — Реймс, французские и бельгийские Арденны. Там он знакомится с одним лирическим поэтом, дровосеком, анархистом и бывшим дезертиром, — тот живет в бревенчатой хижине со своей подружкой, наивной, как недоразвитое дитя, он посвятил ей свою поэму под названием «Зверь», написанную «не без таланта», — дядя очень жалел, что не сохранил ее.
В Брюсселе, который в это время кишит анархистами, он несколько дней живет в их общине. На чердаке, сплошь заставленном койками, где лежат в обнимку молодые парочки, его внезапно охватывает вдохновение, и он разражается пламенной речью о будущем пролетариата. Но напрасно он надрывается! «Радости любви трогали и занимали их гораздо больше, нежели все прекрасные теории, направленные на достижение всеобщего счастья. Я хотел вклиниться своей речью в их любовные излияния, но тщетно. Они были глухи ко всему!»