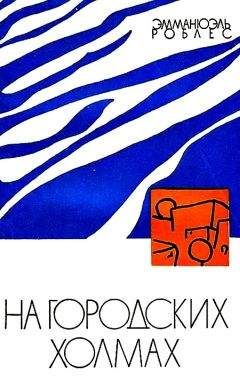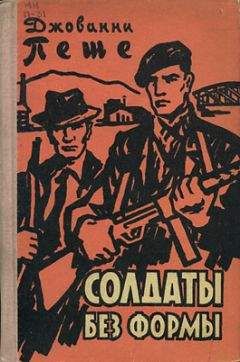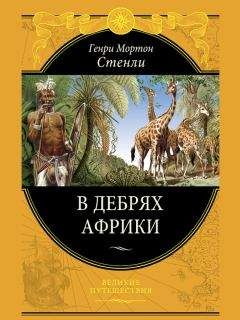Дядя мой — очень худой, загорелый, с лицом, сплошь изрезанным морщинами, с большим горбатым носом и колючими глазами — носил полукруглую бородку на марокканский манер. Его иссохшие руки казались кусками дерева.
Он не знал французского, а Фернандес почти не говорил по-арабски, и поэтому мне пришлось быть переводчиком.
Я не виделся с дядей уже несколько недель. Мне показалось, что он постарел; щеки и виски запали еще глубже, его часто одолевали короткие приступы мучительного кашля. Должно быть, у него туберкулез. Я вспомнил, как во время нашего последнего перехода через границу он вынужден был часто останавливать нас. Он быстро утомлялся: здоровье его сильно пошатнулось.
Он стал расставлять на медном подносе белые и голубые чашки для чая. Фернандес курил. Я разглядывал крохотную лавчонку. Лавчонка эта с множеством полок, забитых ящиками и кусками материи, которые скрадывали шумы, всегда нравилась мне. Сотни платков («Продажа без карточек», — гласила надпись) ярких расцветок, словно флаги свисали с веревок, протянутых под потолочными балками: ярко-малиновые, зеленые, желто-лимонные. Эта радостная игра цветов действовала на меня успокаивающе. Не хотелось ни двигаться, ни говорить… В отсветах керосиновой лампы, стоящей на этажерке, мягко переливались шелка, тюль, блестки на свадебных платьях…
Фернандес все дымил сигаретой. В это мгновение Идир взглянул на меня, и мне показалось, что в его улыбке проскользнула насмешка. Раздувая огонь маленькими детскими мехами, он спросил:
— Чем могу служить?
Меня раздражала эта его непринужденная вежливость торговца.
— Мой товарищ хочет поговорить с тобой об одном деле, об одной услуге.
Идир ждал. Моя фраза ничего не объясняла ему. Может быть, он думал, что речь пойдет о какой-нибудь небезынтересной для него покупке английской ткани. Лампа иногда потрескивала.
— Ему хотелось бы знать, не согласился бы ты провести в Уджду одного из его друзей…
Дядя, казалось, удивился этому предложению. Он выпрямился, опустил веки. Он размышлял. Мне вдруг подумалось, что из чувства порядочности я должен уточнить, кто этот человек, чтобы дядя мог точно определить всю важность и всю опасность поручения.
— Речь идет об одном французе. Он убил в Марселе немецкого офицера. Его теперь преследуют…
Идир впился в меня горящим взглядом. Мне стоило большого труда не отвести глаза. Потом улыбнулся и повернулся к печке.
— Немного чаю?
— Хочешь чаю? — спросил я Фернандеса.
— Да… Ты ему объяснил?
— Конечно.
— У него такой вид, будто он колеблется.
— Он обдумывает предложение.
Идир протянул нам по чашке дымящегося чая. У входа в лавчонку остановился какой-то прохожий, пощупал один из платков, висевших у двери, — этакий ядовито-зеленый платок с желтым рисунком, невольно напомнивший мне бразильский флаг. С царственной небрежностью Идир назвал цену. Покупатель отрицательно мотнул головой и ушел.
Фернандес пил чай, громко прихлебывая. По мостовой протарахтели колеса тележки.
Дядя снова закрыл глаза. Теперь у него был важный и безмятежный вид слепца. Раздумывает ли он?
А может быть, ему больно? Мне казалось, что челюсти у него стиснуты. Наконец он повернулся ко мне и мягко сказал:
— Нет.
— Ты не хочешь?
— Если бы я даже был здоров, — а сейчас я очень устал, — и то я не пошел бы.
— Что он говорит? — нетерпеливо спросил Фернандес.
— Погоди.
Медленно и глуховато, так, что мне пришлось напряженно вслушиваться, Идир добавил:
— Границу хорошо охраняют… и не только из-за контрабанды, но и из-за французов, которые бегут в Марокко, а также из-за эпидемии тифа, свирепствующей между Тлемсеном и Марниа. Риск слишком велик. Араба, который поможет французу перейти в Марокко, накажут более жестоко, чем самого беглеца…
Он отхлебнул глоток чая.
— Что он говорит? — не удержался Фернандес.
Прежде всего я собирался сказать ему, что дядя стар и болен и поэтому не может принять его предложение.
— Он отказывается, — ответил я, — потому что если его схватят, то жестоко накажут.
— Он преувеличивает…
Я живо отозвался:
— Нет. Он не преувеличивает!
В наступившей тишине послышались звуки патефона — исполняли песенку Махиддина.
Потом заговорил Фернандес:
— Скажи ему: речь идет о жизни человека… Что это даже важнее, чем…
— Не стоит.
Фернандес казался удивленным и раздосадованным. Он осмелился вставить:
— А ты не думаешь, что если бы я предложил ему значительную сумму…
— Нет, не думаю.
— Что же делать?
Фернандес был недоволен. Он нервничал. Вот он бросил сигарету, тщательно растер ее каблуком. Потом, не вставая с табуретки, наклонился вперед и стал потирать руки, похрустывая пальцами…
Я ждал, что он напомнит о моем предложении быть проводником, если дядя откажется. Это приключение показалось мне вдруг заманчивым. Я говорил себе, что отсутствовать придется недолго. И еще одна выгода была во всем этом деле: мадам Альмаро подумает, что хорошенько припугнула меня! Она решит, что я последовал ее совету и дал тягу…
— Ты говорил, — начал Фернандес, — что заменишь своего дядю…
— Да, я помню.
— Товарищ не может оставаться здесь. Отъезд намечен на завтрашний вечер. Он во что бы то ни стало должен быть в Казе в понедельник.
— Что он говорит? — спросил дядя.
Я обещал ему заменить тебя, если ты не согласишься.
Идир поставил на поднос свою чашку, вытер губы тыльной стороной большого пальца, потом долго рассматривал Фернандеса.
— Несколько недель назад, — проговорил он, — одному из моих друзей захотелось отговорить от поездки во Францию рабочих, которые находились уже в порту и готовились к погрузке на судно. Его схватили. Позавчера я узнал, что его приговорили к пятнадцати годам каторги. Его зовут Ассаном. У него пятеро ребятишек.
Он сказал это, отчеканивая каждое слово.
Безусловно, он предупреждал меня. Но эта история вызвала во мне сильнейшее негодование. Пятнадцать лет! Пятнадцать лет каторги за такое, с позволения сказать, «преступление»! Я весь дрожал, лицо покрылось гусиной кожей. Я порывисто вскочил.
— Что случилось? В чем дело? — забеспокоился Фернандес.
Я не ответил. И спросил у дяди:
— Это работа Альмаро? Это он? Отвечай… Это он?
Идир поправил тюрбан на голове (я увидел, Как его длинные пальцы, темные и худые, лихорадочно теребят складки материи) и откашлялся.
Потом он опустил веки и снова замер в позе слепого: застывшая маска, покрытая легкой испариной.
В тишине слышалось лишь потрескивание лампы, похожее на всплеск камешков, падающих в пруд.
— Альмаро — недостойный человек… — прошептал, наконец, дядя с презрением и отвращением.
Он помолчал… Все та же поза слепого… Ничего не понимающий Фернандес смотрел то на одного, то на другого.
Я затаив дыхание вслушивался в дядин голос, который наливался злобой — так ветер, раздувающий пламя, взметает вдруг в своем порыве целый сноп искр.
— Он посмел утверждать, что бог призывает арабов объединиться с немцами, помогать им, работать на них. Он осмелился так говорить о боге, прикрыться его именем!..
Он все время сидел на прилавке, выпрямившись, закрыв глаза, и ненависть придавала его лицу то жестокое и злое выражение, которое встречается у старых мавританских разбойников. Я разгадал эту ненависть — ненависть еще более ожесточенную, еще более глубокую, чем моя. Неутомимую ненависть фанатика… Я восхищался дядей! Я любил его! Меня охватил какой-то странный восторг…
Он открыл глаза, посмотрел на меня. Я увидел его пламенеющие зрачки и понял, что, если в один прекрасный день убью Альмаро, Идир одобрит мой поступок, Идир будет доволен мною… И дикая радость захлестнула меня…
Но Фернандес тянул меня за куртку, торопил перевести то, что сказал дядя. Я ответил ему:
— Он отказывается. Но я… я согласен… при двух условиях.
— Каких?
— Я хочу иметь оружие. Мне нужен револьвер..
— Это нетрудно сделать.
— Хороший револьвер.
— Само собой разумеется.
Я долго смотрел на Фернандеса.
— А второе? — спросил он недоверчиво.
— Что второе?
— Ты же сказал, что у тебя два условия. Револьвер — это пустяки.
Ах, второе? Да какое это имеет значение. Я совсем забыл о нем. Я сказал о двух условиях из инстинктивного, неосознанного желания не слишком выпячивать свою просьбу о револьвере. Я сказал:
— Ну конечно же! Я хочу, чтоб мою поездку оплатили.
— Иначе и быть не может.
— Я хочу сказать: и обратный путь.
— У тебя не все дома, парень. И это ты называешь условиями?
— В чем дело? — спросил Идир.
— Я согласился! — воскликнул я, повернувшись к нему.