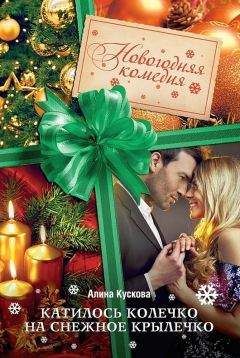Однако, на работе стали замечать в нем и агрессию. Так, рассказывали в курилке анекдот о беременной: “ Это женщина, которая не понимает шуток, с ней пошутили, а она надулась”. Он выскочил с белыми глазами, как потом смеялись мужики, и его тошнило от пошлости.
Как-то две девушки, младшие научные сотрудники, болтали, не обращая на него внимания. Одна девица описывала другой встреченную в очереди в магазине старуху с изумрудным перстнем и добавила с нотой классовой ненависти в голосе: “Зачем он ей? Так и хотелось ее пришибить”. Наш неврастеник мгновенно предстал перед барышнями, выбежав из-за чертежной доски, и заорал: “Как это — пришибить?” Они на миг замолкли и вдруг, несмотря на его разъяренный вид, дружно захохотали. А когда он пополз назад в свой закут, понимающе переглянулись, и одна долго крутила пальцем у виска, оценивая его выскок.
Не стерпев в другой раз рассуждений коллег о том, что США начнут-таки против нас войну, строптивец мой резко отреагировал: “Да на что мы им нужны! Это все предлоги чтоб кормить вояк и держать народ в черном теле, дескать, все — на оборону”. Сам он произносил “Соединенные Штаты”, никак не мог согласиться со звучанием “сэ-шэ-а”. Высказался, а потом ругал себя: “Дурак, дурак!”
У него начался психоз с симптомами, которые наблюдаются обычно у работников через год-два от начала трудовой деятельности на закрытом предприятии: он стал бояться, что потеряет пропуск. Страх пронимал его постыдной дрожью в проходной, когда он шарил по карманам в поисках проклятой картонки, удостоверявшей его личность. Страх будил его ночью, усугубившись после того, как замордовали выговорами одну нерадивую сотрудницу за такой проступок. “Ведь так можно в дурдом загреметь1” — осознавал он происходящее.
Он сходил с ума в этом загоне для людей, понимая, что собрали их здесь для того, чтобы под надзором они не успевали думать о себе. Он невольно, почти вслух говорил себе самому: “Сколько же еще придется жить! Ведь нельзя лечь к стенке и умереть!”
В родительском доме по-мещански волновались за репутацию своей дщери. Когда она приходила в отчую пятиэтажку, отец смотрел на нее с грустью, а мать звала единственное свое дитя не иначе как “юродивая”.
Никто не сказал толком моей дурочке ни о планировании семьи, ни о противозачаточных мерах. Она полагалась во всем только на своего избранника, совершенно снимая с себя ответственность за происходящее. Когда же задумалась о том, что будет, если… было уже поздно.
В районной женской консультации немолодая врач-гинеколог после определенных манипуляций сказала довольно равнодушно: “Есть подозрение на беременность. У вас ранняя явка, приходите через две недели”.
В простушке сразу поубавилось инфантильности. “Что же делать?” — спрашивала она себя, вдруг осознав временность их безмятежного существования. И удивлялась, что так долго суровый возлюбленный не покидает ее, тогда как он полушутливо клялся ей: “До могилы!”
Она понимала, что для выживания в этом мире недостаточно просто любить друг друга, что одна моногамия не может уберечь их навсегда. Совсем недавно он сам с раздражением говорил о своих сослуживицах, одна за другой уходящих в декретный отпуск, что они размножаются с упорством трески, добавив в сердцах: “Преступленье иметь детей в наше время!” Теперь, когда она с надеждой произносила: “Может быть, это еще ошибка”, то встречала вдруг такой напор чувств, которого и ждать не могла: “Нет, я уже чувствую себя отцом. Если сейчас нет, то и никогда не будет”. На ее речи о том, что если их ребенок окажется похож на своих родителей, то обречен на одиночество, он вне всякой логики твердил, бережно обнимая укутанные в шерстяные рейтузы ее бедра: “Но ведь я нашел тебя!”.
В тягучие ночи она не могла спать, мучимая сомнениями, растравляя воображение картинами будущего, теми самыми прогнозами, которые раньше слышала от него, не придавая им значения. Ей представлялась, точно в черно-белых кадрах документального кино, оскверненная природа, обшарпанные древесные стволы без ветвей, белые горы полиэтиленового мусора и в речных руслах потоки зеленоватой воды с кислотными испарениями — это уже проворачивались в мозгу виды с натуры, задворки химических заводов, когда по институтской программе ее возили на экскурсию. Она так живо воспроизводила в фантазиях детали, что ей разъедало до кашля трахеи.
И когда видела в метро на “Киевской” и “Арбатской” металлические задраенные двери бомбоубежища, все это ужасом откликалось в ней и имело какое-то отношение к судьбе будущего ребенка.
Несколько раз она испытала во сне потрясение: привиделись красно-черное небо и руины домов, и она понимала, что это война, а спасением было пересечь взрытое бомбежкой поле. Но она как будто не знала, в какую сторону ползти, не ориентировалась, потому что потеряла очки и, почти ослепшая, натыкалась кулаками и коленками на горячие камни-гольцы по краям пашни. Сон возвращался не раз, иногда она переживала ощущение, что за ней гонятся, и пыталась оторваться от земли, взлететь, раздвигая руки, как во время плаванья стилем “брасс”. И, оттолкнувшись пятками, летела низко-низко, так что сердце заходилось в ужасе, потому что преследователи почти хватали ее за ноги.
А раньше такими блаженными были эти летания во сне, когда она парила в воздухе, точно девушка на картине Шагала, только поза удобнее, менее экзотична: кротко лежа на спине, летишь вперед ступнями, согнув в коленях нижние конечности.
Как и большинство людей, которых знала, она ждала войны с Америкой, и страх этот глубоко укоренился в сознании. И хотя на семинаре по научному коммунизму бодро намекали: “Война будет, но победит СССР”, она понимала, что не уцелеет никто.
Вывешенные на кафедре военной подготовки цветные плакаты учили, как при ядерном взрыве ложиться в доме под окно на пол, чтобы спрятаться от потока радиации, как надевать противопылевой респиратор и завязывать тесемки бахил. И ей особенно запомнилась картинка, где мужчина и женщина несут на руках ребенка, все трое в противогазах.
На учениях по гражданской обороне, где устраивали соревнования, кто быстрее переправит “раненых” на носилках и забинтует условно пробитые головы, переиначивая название предмета “гражданская оборона” в абревиатуру “Гроб”, острили: “Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется”.
Начальник первого отдела полковник Хубаткин, наводивший на сотрудников страх угрюмым видом, по характеру своему не был злодеем. Все знали, что он пьет, от него за версту пахло хорошим коньяком. Говорили, что в кабинете Хубаткина смонтировано было специальное устройство, позволяющее ему без компрометирующих рюмок и бутылок вкушать веселящий нектар. Сосуд якобы ставился в специальный держатель, сквозь ящик начальничьего стола шел чистый полиэтиленовый шланг, кончающийся мягким загубником. Начальник, не сходя с рабочего места, время от времени потягивал живительную влагу, удовлетворяя, по Фрейду, свой не избытый в младенчестве сосательный рефлекс. А дирекция института боролась с пьянством сотрудников, ежедневно выставляя на выходе дежурных, нюхом чующих алкоголь.
После училища по итогам дипломной работы у специалиста нашего вышла публикация в Журнале теоретической физики. В адрес института пришло письмо из Бельгии от одного исследователя, имя которого наш молодой автор, едва разбиравший печатный текст по-английски, даже не мог транскрибировать. Не подозревающий, конечно, о том, что институт имеет еще ипостась засекреченного “ящика”, иностранец просил выслать ему оттиск статьи. Моему инженеру вручили сие послание во вскрытом конверте, где марки были уже оторваны, и передали приглашение явиться к заместителю директора по режиму.
За двойной дверью, обитой искусственной кожей, находилась уже известная ему комната исполнителей, длинное помещение, которое при видимой чистоте и беспыльности отвращало запахом застарелых окурков. В комнате этой было пусто. На письменных столах, покрытых желтым винилпластом, змеино изгибая пружинные стойки, стояли старые, послевоенного образца настольные лампы. Они были странно деформированы, и в перевернутых абажурах, похожих на солдатские каски, росли полуживые белесые традисканции, комкая корни в скудном объеме земли.
Хубаткин позвал из своего кабинета (дверь в него была отворена): “Заходите, Батурин”, — взял из его рук письмо, отыскал на столе среди разложенных бумаг отпечатанный на машинке перевод, имеющий даже какой-то номер, и пробежал его глазами. “Нам это не нужно”, — сказал шеф секретов и разорвал буржуйское посланье. Потом продолжал почти доброжелательно: “Я тут узнал, что вы как-то аполитичны, из комсомола выбыли за неуплату взносов, допускаете непозволительные высказывания. Как же с такими настроениями вы собираетесь дальше работать на оборонном предприятии? Подумайте, молодой человек, и двадцатого числа приходите на беседу”.