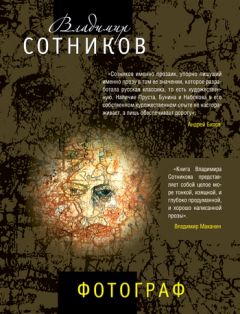– А чем ты занимался, ну, в городе? – спросил я.
Меня так удивляла в нашем разговоре смесь обычного и нереального. Встретились, говорим. И каждая фраза готова обозначить что-то большее, чем ее звучащее значение. Это мне напомнило мой выбор ехать – не ехать, который завершился в словах Сергея. Но вот же доехал…
– В фотоателье работал. Потом в газете. Снимаешь одно, а выберут из этого самый паршивый кадр. И текстовочки такие, что с ума сходишь – ну нельзя же так дубово! Кончилось тем, что опять в ателье вернулся. Свадьбы снимал – как сделаешь серию снимков от загса до разъезда из ресторана, да еще подловишь жениха да родителей, да смонтируешь все эти выражения – получалось интересно. Выставку устроил к юбилею города. Представил одни снимки, а вечером, перед открытием выставки, поменял почти все. Скандал вышел. Кстати, некоторые снимки я сюда привез – вон висят.
Я уже обратил внимание на эти фотографии, не подозревая в авторстве Сергея. Мужчина, перед которым закрылась дверь автобуса. Беспомощный, по-детски растерянный взгляд. Цыганка на рынке гадает по руке женщине, у которой закрыты глаза, – что она хочет услышать? Гогочущая молодежь забрасывает удочку в пруд – два лебедя рванулись в стороны. Маленькая девочка стоит с матерью в очереди и смотрит снизу вверх в мертвые глаза манекена в витрине.
– Там еще есть, – махнул Сергей рукой в сторону комнат.
– Да, глаз у тебя… – пробормотал я.
– Черный, черный, как один человек сказал. Я и сам уже задумался. Стал ловить себя на том, что, куда ни смотрел, такого момента ждал – чтоб людей обнажить, что ли? Хотя, чего ждать – на каждом шагу. Только щелкай, не жалей пленки. И надоело.
– А здесь, в деревне, не снимал?
– Почти нет. Здесь, знаешь, как на охоте – когда не можешь добить утку. Такое же чувство. Поснимал вначале немного. То собака попадется – с такими глазами, оглядывается… Скворечник какой-нибудь запрокинутый над домом. Порвал эти снимки. А то на Радуницу съехались земляки – я на кладбище «Полароид» взял. Так многие и снимались, оглядываясь на те, фарфоровые, фотографии. На крестах. Еле сбежал оттуда. Нет, больше не снимаю.
Мы еще выпивали, не пьянея. Просто какие-то оковы с меня спадали, и я чувствовал, что уже разрешил себе спросить что-нибудь из того запретного, о чем и сам боялся думать.
– Ну а дальше как? Так и будет?
Злость промелькнула в его глазах – на мгновение.
– Что – дальше? Все будет так, одинаково, неужели ты не понял? Уже дождались. Помнишь, жил среди нас погорелец, приехавший откуда-то? Халупу тут ему отдали, он и жил испуганный, не мог в себя прийти. А все, глядя на него, себя чувствовали уютно. Вот и сейчас вся деревня такая – погорельцы. Наказание за свою… жизнь. Если она была.
Я пьянел не от водки, а оттого, что впервые за долгое время забыл себя, избавился от своих ощущений. Словно сидел перед зеркалом, в котором отражался другой человек. Можно было уже спрашивать обо всем – тут, конечно, водка помогала. Снимала запреты. Я так устал от невозможности отвечать самому себе – и радовался случаю, когда облегчилась собственная участь, словно кто подставил под тяжелую ношу плечо. Оказывается, вот так надо нести, и в ногу, аккуратно – и сразу ноша стала легкой и, главное, какой-то объяснимой…
Я заметил, что мы избегаем подробностей. Наверное, тоже водка помогала. Когда беседуют два человека, выпивая не спеша, то кажется, что каждый вновь и вновь возвращается к самому главному, что волей-неволей упускает собеседник.
– Что дальше, – помолчав, повторил Сергей. – А что должно быть? Я здесь перевидал много людей. Приезжают, переживают. Тоже, наверное, думают, что будет дальше. Только вот никто не задумался: а почему должна была продолжаться эта скотская жизнь? Почему они решили, что им должно быть хорошо? А за что? Знаешь, я все вспоминаю того погорельца. Вот только за то, что радовались все его горю – ну радовались, скорее, что их это не коснулось, – и то надо было всех к чертовой матери… А в той жизни думали: что дальше? А сейчас опомнились. Знаешь, если бы сейчас съехались все обратно, что сделали бы в первую очередь? Сожгли бы мой дом. Для порядка.
Сергей разволновался. Я не решался вставить слово. Пусть выплеснется, думал я. Человек, когда судит других, освобождается.
Конечно, я бы мог его поддержать. Прямо на поверхности, как крошки хлеба на столе, лежали слова о наказании – бери и складывай картинку. Я бы и дальше пошел. Много чести, сказал бы я, много чести в таком наказании. Та жизнь уже была наказанием, замкнулась в самой себе. А то, что случилось, – просто исчезновение. Деревни, улицы, людей, памяти. И дом Сергея мне представлялся памятником прошлой, прошедшей жизни, соляным столбом.
– Надо же, – сказал я, – и не думал, что ты можешь жить здесь с такими мыслями.
Он усмехнулся, словно я его похвалил:
– Да какие там мысли. Мыслитель. Занимаюсь всякой ерундой – вожусь по хозяйству. Сумасшествие, конечно, своего рода, но затягивает – начнешь что-то делать и краем глаза ищешь уже новую работу. Сам себе хозяин.
Как хочется нам простоты и ясности, подумал я. Как будто для этого появились на свет.
– А знаешь, – продолжал Сергей, – надо обязательно притвориться, что ты все принимаешь. Не понимаешь, а принимаешь. С работы меня выгнали, я смирился. Ладно, думаю, так и надо. Зачем же через силу жить? С женой стали как чужие. Ну и что, думаю, раньше не мог без нее дня прожить, но прошло то время. Когда все принимаешь, не так сильно и меняется жизнь. Даже наоборот, становится без твоих усилий естественной, катит, как река. А ты – хозяин сам себе, того пространства, где живешь. Там, где ступаешь.
Он наливал еще – без водки такое не скажешь.
– Не опьянеть бы, – улыбнулся Сергей, – еще в бане надо попариться. Люблю я такие неторопливые движения, без усилий. Помнишь, как в детстве, весной, ручьи гоняли? Течет ручеек и натыкается на запруды. А мы расчищаем их, чтобы вода не останавливалась. Главное детское движение – освободить воду. Пусть течет.
Я радовался его словам. Впервые я видел перед собой человека с ясным выбором, не обиженного какой-то внешней силой. Всегда видел обиженных людей – кто обижается, что зарплата маленькая, кто обижается, сам того не понимая, на Бога: надо же, не дает себя понять. Такой хороший, умный человек хочет Его понять, увидеть, а Он – скрывается. Обидно.
Легко так думать о других – не о себе. Как хочется нам ясности и простоты.
– Пошли, – встряхнулся я. – Пошли пожаримся в твоем аду.
За полчаса баня была готова. Удобно, по-хозяйски, ее устроил Сергей. Мне подумалось, что в той, прежней, жизни такого удобства быть не могло. Вода наливалась по шлангу из колонки. Камни накалялись за минуты. Был душ. Веники под рукой – дубовый, березовый, крапивный. Сколько же в них рентген? – думал я, распаривая веники. Не удержался и сказал об этом Сергею.
Он засмеялся:
– Ну, если об этом думать, то париться можно лет через сто! Когда период полураспада завершится. Интересно – во всем полный распад, а у этих частиц только полураспад еще в далеком будущем! Живут себе своей жизнью. Натворили дел и горя не знают.
Хорошая шутка, оценил я, сливая первую воду – вместе с частицами.
О чем мы говорили после бани? Забыли «главную» тему, перенеслись в прошлую жизнь, как обычно переносятся встретившиеся после многих лет друзья. Детство и кусочек юности были нашей общей жизнью, и мы вспоминали их, как один человек. И усталость от этих воспоминаний была убаюкивающей – когда уже начинаешь понимать, что и уснуть будет приятно. Еще приятнее и необходимее, чем разговаривать.
Я подхватился среди ночи от страшного крика и выскочил в соседнюю комнату. Сергей вскрикивал, словно задыхался – на пределе воздуха, со всхлипами и тем страхом, который ему, наверное, казался последним, крайним по своей степени.
– Серый, Серый! – теребил я его, вспомнив почему-то детскую кличку.
Прямо в окно светила ясная луна, спокойно наблюдая происходящее. Я растерялся от страха, от своего одиночества рядом с чужой болью – этот крик отталкивал меня, отгораживался от моего присутствия и участия своим диким животным бесстыдством. В моей беспомощности на секунду, когда я оглянулся на залитую лунным светом комнату, мелькнуло ясное понимание: это внутри меня, в моей пустоте звучит этот крик. Нет ничего, кроме этого звука, – на месте чувств, слов, дыхания. Я исчезал, растворялся под лунным светом, прятался по темным углам своими раздробленными частичками – так, наверное, звучит последняя минута жизни, подумал кто-то вместо меня.
Крик оборвался. Сергей судорожно всхлипывал, сотрясаясь всем телом, как ребенок. Он сел на кровати, покачиваясь, наверное, от ударов сердца.
– Что же это, что же это… – тоненькой цепочкой шептал он слова.
Я отошел к столу и налил водки.
– Выпей и усни, – протянул я ему стакан. Он поднял глаза, попытался шевельнуть губами в улыбке.