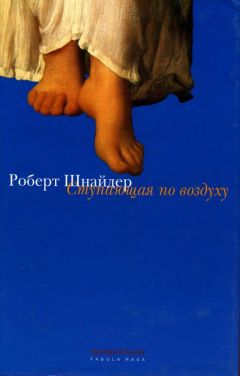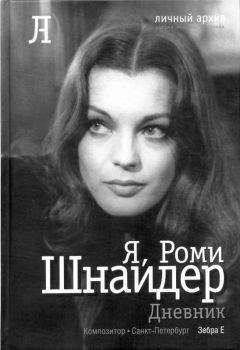Обнимать. Обнимать. Не отрываясь от тел. Немедля к ним. К рукам мужчин. К ушам мальчиков. К губам женщин. К шейкам девочек. К детским головкам. Безотрывное касание. Объятия запретны. Объятия искушают. От них шарахаются, отпихиваются, отгораживаются криком. Все лицо в отпечатках женских губ. Все лицо в помаде. Руки впитали десятки запахов дешевого мыла и дешевых духов. Все залито потом и слюной. Всюду слюна, и всюду пот.
И начинает светать. И небо желтеет, и нарастает синева. А за Мариенру выгибается гигантская дуга и бурлит кипенье света. И свет заливает Почивающего Папу, и силуэт горной гряды зашевелился. Старец в трехзубой тиаре просыпается. Раскрывается впалый рот, руки разведены, и убегающую вдаль плоскую грудь вздымает дыхание.
И Мауди обнимает Изюмова и забирается к нему на колени. И Изюмов терпит ее объятия, единственный, кто терпит. И накрывает ладонями ее голову, гладит дрожащего в лихорадке ребенка и говорит по-русски: «Вот и хорошо, ангел. Вот и ладно». Девочку рвет, но Изюмова это не ужасает, он спокойно переносит это и мягко поглаживает ее по судорожно-напряженным плечам. Пока вновь не заходится кашлем. Долгим сырым кашлем.
Безмолвное смущение сладковатым дурманным облаком повисает в зале. Руки и ноги у всех словно оглушены наркозом. И проходит какое-то время, пока они не овладели своими телами, моторикой собственных рук. Потом все, что было опрокинуто, встает на свои места, все, что разлито и просыпано, вытерто и прибрано. Скатерти расправляются. Одежду и прически приводят в порядок. Какие-то женщины стыдливо хихикают. Слышится более чем внятный шепоток.
Рауль, не робкого десятка парень, берет на себя заботу об Амрай. Марго прячет в тылах поднявшую рев Эстер. Официанты занимаются сервировкой, стараются услужить гостям. Девочка все еще на коленях у Изюмова. К ним с тазом и тряпкой летит один из пиццайоли. Инес берет Мауди на руки и возвращается к столу Латуров и Ромбахов.
— Может, мне вызвать врача? — спрашивает Рауль у Харальда.
Харальд пожимает плечами. Лицо бело как мел. Оно беззвучно смеется.
— Идемте же отсюда! — кричит рыдающая Амрай.
Напирая друг на друга, они бросаются к выходу. Гуэрри приносит шубы, денег он брать не желает и высказывает надежду, что с девочкой не случилось ничего серьезного. Мимоходом Марго слышит чье-то неуверенное бормотание, что-то про эпилепсию. Гуэрри закрывает за Латурами и Ромбахами дверь. Раулю приходит идея, каким образом водворить спокойствие, — музыка. Какой-то автор-исполнитель начинает журчать песню про Зудамерику.
Кармен, сидящая за столом с масками, в поисках своего веера впивается пятерней во что-то теплое и мягкое. Она поднимает такой громкий крик, что в зале тут же опять воцаряется тишина.
Гуэрри просто безутешен, голосит во все горло. Он с мольбой причитает: «Бипо! Бипо!» Но короткохвостика уже не воскресить. Гуэрри трясет его, треплет, горестно указывает на него столпившимся землякам. Они ужасаются и соболезнуют на непонятном итальянском. Гуэрри целует лапу и даже морду Бипо.
И он ощущает вдруг вкус воды Ионического моря. Он чувствует соленый воздух над гаванью Катании. Вот они, все двенадцать, в маленькой с зелеными кафельными плитками кухне, а мать чистит для детей baccala — сушеную треску.
Не может ли он устроить так, чтобы ему продали столовый прибор той женщины в лазурном свитере, матери эпилептического ребенка.
Рауль удивленно смотрит на человека с черным хвостом на затылке и прямой наводкой глаз. Тот повторяет свою просьбу.
Он бы хотел самым деликатным образом, естественно, приобрести прибор той молодой дамы. Тарелку для супа, салатницу, бокал и салфетку.
Рауль в отчаянии. Мало ли какая фантазия взбредет здесь кому в голову, на самом деле. Но Бойе улыбается ему своими бычьими глазами. И проворно подскакивает к покинутому столику, и в его тонких белых пальцах в мгновение ока оказывается то, к чему прикасалась Амрай. Он заворачивает все в полотняную салфетку и сладко улыбается, обнаружив на ней малиновый отпечаток губ. Он кладет на стол, вернее, ставит домиком купюру и возвращается в полутемный угол, где вечно попахивает писсуаром. Бойе пытается согнать с лица краску смущения и с преувеличенной заинтересованностью просит Эсбепе объяснить, что такое мордент.
Солнце сдвигалось на север. Там, где, по тысячелетним наблюдениям, пересекаются эклиптика и небесный экватор, оно вступило в свое первое равноденствие. День и ночь сравнялись по времени.
Весна. Туман, неделями не покидавший своего лежбища в Рейнской долине, внезапно исчез неведомо куда. Исчез не менее загадочным образом, чем воздушный сахар в изумленном рту ребенка. Реактивные самолеты бороздили хрупкую бирюзу неба белыми царапинами инверсионного следа. Воздух переливался шелком, хотя с Мариенру в долину врывались безумные снежные бури. Равнина еще лежала в буром осеннем оперении и была скована холодом. Деревья чернели в своей траурной наготе. На Боденском озере выморозило все зеленые оттенки, и серая вода напоминала сланец.
Потом через Швейцарские горы перевалила весна и целый день и целую ночь грела своим поцелуем долину Рейна. И в самом деле: за одну ночь на помертвелых лугах пробилась зелень одуванчиков, голые кусты разжелтелись предпасхальным убором вербного пуха, и нежная синева лютиков сплошной каймой высыпала вдоль лесных опушек. Улицы Якобсрота уже не глянцевели по ночам ледяной коркой. Мартовская слякоть сходила с асфальтовых и брусчатых мостовых.
Жуткий случай в «Галло неро» настолько растревожил Амрай, что она уже не одну неделю носилась от терапевта к психиатру и от психиатра к терапевту. Более того, она возила Мауди в Инсбрук, чтобы показать специалистам университетской клиники, и тамошние невропатологи не могли обнаружить ни малейших признаков эпилепсии. Никакой церебральной обусловленности, ни сильных, ни слабых приступов, нет и намека на симптом так называемого «припадка Джексона», который мог бы вызвать локальное раздражение определенного участка мозга. Ни тумора, ни нарушения местного кровообращения, ни родовой травмы. Эпилепсией, насколько могли выяснить Амрай и Марго, никто из рода Латуров не страдал.
Через посредничество Инес Амрай адресовала подобные вопросы исчезнувшему мужу, так как ее подруга состояла в переписке с Амбросом. Бауэрмайстер ответил Инес телеграфным сообщением из Мангейма, что ничего похожего в его роду не наблюдалось. Тчк. И если бы положение не было столь серьезным, интересно было бы выяснить, как или чем он оплатил эту телеграмму из Мангейма.
Нет, эпилепсией Мауди не страдала. Однако на всякий случай Амрай решила проконсультироваться в Инсбруке. Вначале она всегда держала наготове подушку, чтобы при падении на пол ребенок не повредил голову. Она тайком упражнялась на самой себе в извлечении языка из зева: запавший язык мог стать причиной удушения. Месяц-другой она не расставалась с куском пластилина, нервно разминала его с мыслью о том, чтобы — если уж дойдет до такой крайности — втиснуть его между зубами дочки, дабы предотвратить прикусывание языка. Мауди уже не разрешали ходить купаться, а ежедневное потребление жидкости мать измеряла мензуркой.
Она жила в страхе. Долгие ночи страха за Мауди. То и дело упрашивала она Эстер сообщать даже самые незначительные детали поведения Мауди в среде одноклассников и в балетной школе, но никаких сведений не получала. Даже если бы произошло нечто особенное, Эстер просто из упрямства не сказала бы об этом. Она смотрела на Мауди как на страшный пыточный инструмент для своих нервов.
Когда же сама Амрай убедилась, что состояние дочки не внушает ни малейших опасений, материнский инстинкт обрел наконец терпимую для всех меру. Мауди разрешили теперь спать в просторных апартаментах бабушки, более того, отдали три комнаты в ее полное распоряжение. Одна из них была некогда комнатой для прислуги, где Мауди была зачата. Но этого она не знала.
Она любила запах покинутых комнат, и комнаты эти не могли быть достаточно велики. Часами ее мысли мечтательно вплетались в тяжеловесные посеревшие гардины. Она оживляла в памяти фигуры, световые пятна и пейзажи тех картин, от которых остались еще не выцветшие прямоугольники на обоях. Картин становилось все меньше, пятен на стене все больше. Она страдала вместе с Марго, когда одна из гравюр австрийских миниатюристов оказывалась в белых паучьих лапках скупщика картин. Поэтому она жадно впитывала глазами то, что еще осталось, вбирала в память все, вплоть до фона. Прозелень леса позади Амура и Психеи. Белого, в короне из роз быка в «Похищении Европы» с его раздутыми ноздрями, наивными глазами и похотливым лоскутом языка. И, выучив, можно сказать, наизусть эту картину раньше, она лаконично заявила Марго, что выкупит ее для бабушки.