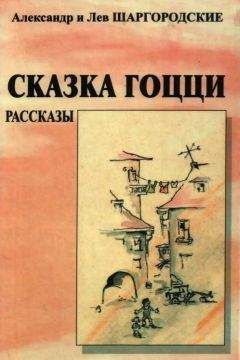Бабушка не хотела, но мы все-таки ее уговорили пойти к Сизову.
— Могу я не присутствовать на собрании? — спросила бабушка.
Айболит улыбнулся. Он знал про бабушкино сердце, и он сказал:
— Вы обязаны присутствовать, гражданка Гольденвизер, — обязаны!
И бабушка поклялась, что не доставит им радости видеть ее в плохом настроении.
Перед собранием она оделась как никогда в жизни, даже на свадьбу сына она так не одевалась. Сделала прическу и впервые намазала губы. Затем она наелась лекарств и пошла. Одна.
Даже сопровождать себя она нам не разрешила. Она их не боялась.
Народ на собрание валил, будто давали «Хованщину» с Шаляпиным в главной роли. Но в главной роли была наша бедная бабушка. Мест не хватало, многие стояли в проходах, отставным офицерам принесли приставные стулья. От них несло антисемитизмом и тройным одеколоном. Их жены сидели в первых рядах и в ожидании начала с треском разворачивали шоколадки. Они кусали жадно, хотя только что поужинали.
В зале была атмосфера премьеры: полковники махали фуражками своим женам, жены — платочками — пенсионерам, пенсионеры — дворникам, а дворники — полковникам и т. д. Круговорот воды в природе.
Полковничьи мундиры были отутюжены, начищены, и с собрания можно было идти прямо на Красную Площадь или в бой — куда Генералиссимус прикажет…
Похрустывая сапогами, на сцену прошли все те же, кроме Певзнера, который был уже в Израиле, и Гнатюка.
— Сарру-Рэйзел Гольденвизер прошу подняться на сцену!
Полковник довольно быстро, минуты за две, произнес бабушкино имя. Явно было видно, что дома он репетировал. В зале прошел смешок.
Имя Сарра всегда вызывало смех, так же, как и «Абрам».
Смешные такие имена…
Бабушка не сдвинулась с места.
— Гражданка Сарра-Рэйзел Гольденвизер, вас просят пройти на сцену, — повторил полковник.
— Я учительница, а не актриса, — сказала бабушка, — я останусь в зале.
В толпе прошел ропот недовольства.
— Ну и штучка, — сказал кто-то.
Бабушка промолчала. Она дала себе слово молчать. И не допустить до приступа, не доставить им ни малейшего удовольствия.
— Мы бы хотели вас видеть, гражданка Сарра-Рэйзел Гольденвизер, покажитесь!
— Пожалуйста, — сказала бабушка и встала, — смотрите!
Ее невысокая фигура высилась, как утес.
— Садитесь, — приказал Сизов, — достаточно. Кто желает выступить, товарищи? Прошу на сцену.
Поднялся Однопозов, сменный мастер с испитым лицом. Бабушка хорошо знала его — периодически он устраивал в квартире дебоши, бил посуду, матюкался, крыл Брежнева и Суслова, и бабушке, как члену конфликтной комиссии, часто приходилось урезонивать его. Бабушку он слушался, клал топор, которым крошил все, что попадалось под руку, и шел спать. До следующего дебоша…
Он начал с места в карьер:
— Весной 1943-го года наш полк стоял под селом Одинцы. Мы готовились перейти в наступление, и наш комполка, товарищ Жухрай, приказал мне и сержанту Крапивину пойти в разведку и взять языка. Апрель был холодный, особенно ночи…
— Товарищ Однопозов, — напомнил Сизов, — мы обсуждаем персональное дело гражданки Гольденвизер!
— Кончаю. Значит, взяли мы с Крапивиным по пистолету, по две фанаты и поползли. Ползем… Ночи в апреле там довольно светлые, да еще немец своими ракетами освещал — попробуй взять языка при такой освещенности.
— Я прошу придерживаться повестки дня, — настаивал Сизов.
— Короче, языка мы взяли. Крапивин его наганом тюкнул, и мы потащили. Здоровый был, килограммов на восемьдесят…
Однопозов стал спускаться со сцены.
— А по поводу гражданки Гольденвизер? — спросил Сизов.
— Да, да, — вспомнил Однопозов, — конечно, тот язык, подлец, ни черта не сказал, немым оказался…
И хихикая, Однопозов занял свое место.
— Товарищи, прошу выступать. И ближе к делу…
На сцену, стуча каблуками, поднялась Родинская — мать-одиночка.
— Товарищ Сизов, — произнесла она, — я возмущена…
Сизов был доволен. Наконец-то заговорили по делу…
— Я возмущена, — продолжала Родинская, — у меня трое детей, мужа нет, а потолок течет… У меня лужи. У меня дети в ботах по комнате ходят… Я сколько вас раз просила починить потолок, а?..
— Мы разбираем персональное дело Сарры…
— Причем здесь Сарра? — возмутилась мать-одиночка. — Я вас спрашиваю: сколько раз вы мне обещали починить потолок?
Сизов молчал.
— Короче, — сказала Родинская, — мне на эту Сарру — начхать, но если к субботе не сделаете, — верну билет. Не нужна мне такая партия, которая потолок починить не может!
То ли действовали лекарства, то ли выступления собравшихся, но бабушка начала постепенно успокаиваться.
После Родинской выступал пенсионер Клющ, у них не работала канализация, и они с женой должны были бегать в туалет на Московский вокзал. Ввиду того, что оба они старые большевики, они просили с этим покончить.
У Нестеровых маляр из конторы начал ремонт, ушел и месяц не возвращался. Они убедительно просили разыскать маляра, ибо маляр — тоже член партии, и принять меры…
Президиум пообещал, и народ, за исключением отставников с супругами, стал подниматься и двигаться к двери.
Бабушка заволновалась — что, опять не исключат?! Сколько же можно?
— Товарищи, — хотела крикнуть бабушка, — исключите, а потом идите, куда хотите.
Но ее опередил полковник Сизов
— Всем сесть! — зычно приказал он. — Собрание не окончено!
Он решил перейти в атаку и взял слово сам. Говорить он не умел, зато умел допрашивать.
— Гражданка Гольденвизер, — рявкнул он, — с какого года вы в партии?
— С 1932-го, — ответила бабушка, — а вы?
— Это не имеет отношения к делу! Почему, гражданка Гольденвизер, все годы вы прятали свое истинное лицо?..
— Простите, я даже не пудрилась и губ не красила…
— Оставьте ваш, — здесь он запнулся, — ваш юмор! Вы притворялись коммунисткой, все годы оставаясь внутри сионисткой и внутренней эмигранткой…
— Господин полковник, — сказала бабушка (и он даже не заметил, что его так назвали), — я за свою жизнь воспитала двадцать тысяч детей. Это, может, и немного, а что сделали вы?
Полковник хотел ответить, что он сделал, придет время — и он еще скажет, что он сделал, но пока он процедил:
— Вы не воспитывали, а калечили детей…
Бабушка не проронила ни слова.
— … Вы калечили наших замечательных детей, скрывая свои истинные цели и намерения! Для вас главной книгой была и остается не история партии, а Библия, или еще хуже — дулмат!
— Что? — бабушка заулыбалась.
Полковник заглянул в свои листки.
— Талмуд, — уточнил он.
— Это совсем не страшные книги, — просто сказала бабушка, — вам бы не мешало их прочесть.
У коммунистов остановилось дыхание.
— Мне?! — еле выдавил Сизов.
— А почему бы и нет? Хотя бы десять заповедей. Хотя бы одну…
— Это какую? — Сизов побагровел.
— Не знаю. Ну, скажем, «не убий».
В зале повисла тишина. Сизов смотрел на бабушку ненавидящим взглядом и сопел. Одновременно с ним засопели подполковники, а заодно и майоры. Они сопели синхронно, и в зале даже поднялся небольшой ветер. Во всяком случае кумачовый транспарант «Да здравствует нерушимое единство партии и народа!» здорово заколыхался.
— За такие слова, — прошипел полковник Бусоргин, — вас бы следовало немедленно исключить из партии!
— Но я о чем прошу? — удивилась бабушка. — Я больше ничего не хочу…
— Вам нет места среди нас, — гордо сказала жена полковника, — вам в Израиль надо!
— Исключите, — попросила бабушка, — я и поеду.
Поднялась буря. Бабушку обзывали сионисткой, агентом, Голдой Меир, развратницей, шлюхой империализма и даже фашисткой.
Она терпела. Ни один нерв не дрогнул на ее прекрасном лице, и комок, который стоял в горле, так и не прорвался наружу.
Бабушке было непонятно, почему они все ее так ненавидят. Что делала она всю жизнь? Учила их детей, иногда умных, иногда тупых, великой науке — математике. И дети любили ее. Они провожали ее до ворот дома и дарили столько цветов, что хватало потом всему двору. Она пропадала в школе с утра до вечера, и даже самые последние лентяи начинали любить эту великую науку. У нее не было времени на своих собственных детей, потому что, если даже она и бывала дома, то проверяла тетради. Она приносила из школы полные сумки тетрадей, которые надо было проверить к утру. Вся наша семья проверяла эти тетрадки… Но отметки мы не ставили — только бабушка имела право ставить оценки! Она проверяла их иногда до утра, а утром шла в школу. И так сорок лет.
А вот теперь они кричат, что она едет убивать их братьев — арабов.
И когда это они стали братьями?