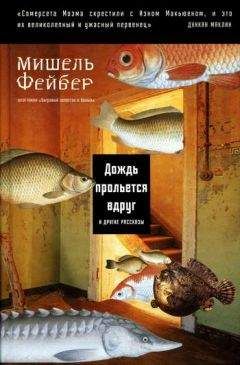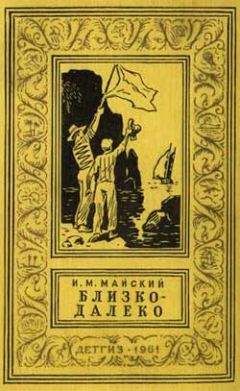А ведь когда-то он находил радость в этой больничной латыни, повторял ее как молитву в трясущемся поезде где-то в уйгурских песках, и даже слово gonorrhea пелось и звучало. Латынь и молодость. Красный Крест, змея над чашей — что она видела в этой чаше, эта змея, что искала? Болезнь рода человеческого, которую она когда-то так некстати попыталась врачевать фруктовой диетой? Что искал сам молодой Блютнер в медицине, в пустыне уйгурской, в которую бежал? Бежал лечить людей, а в итоге заболел сам, заразившись пожизненным недугом с нелатинским именем «археология», слово о начале. В начале было Слово, и побоку пошло врачевание убогих и узкоглазых, побоку. Случайно найденные рукописи, случайно угаданные решки и орлы, встреча с Мартой…
И клятва Гиппократа была оставлена ради молитвы Герострата, покровителя археологов, сжигающего на своем пути храмы прошлого огнем анализа и истины. Наука, чье имя словно выковано из первой строки Иоанна, эн архэ эн о логос, поглотила и сожгла молоденького филантропа Фридриха Блютнера, позднее, болезненное дитя Просвещения. Из пепла и песка тогда вылупился суровый двойник и наменсбрудер сгоревшего доктора. Это был пепельно-песочный Доктор Блютнер, профессор Венского университета, гонорис кауза еще четырех университетов и распочетный — десяти научных обществ, включая Индоарийское. Супруг известной иранистки Марты Блютнер…
Аполло неожиданно поднялся на задние лапы и лизнул Доктора в костлявую руку.
Молодость не проходит — просто уходит куда-то внутрь, в сердцевину. Как туркестанская река, исчезает, не добежав до горизонта, оставляя морщины и сухость, и продолжает свою жизнь под гнетом песка. Коллеги подшучивали над тем, как Доктор вел раскопки — словно оперировал (любимое словечко «диагноз»). Поразительнее всего, что руки Доктора при всех этих хирургических вмешательствах в землю оставались чистыми, приятными. Словно проступали кисти молодого Блютнера, протертые спиртом. Брезгливые кисти пианиста, подрабатывающего мясником.
Нет, молодость не исчезла, она только оставила внешнюю оболочку. Когда болезни начинали одолевать, откуда-то изнутри выходил молодой узкоплечий доктор в круглых очках с заклеенной дужкой, осматривал больное место и лечил его потоками латыни и успокоительными рассуждениями о диагнозе. Потом молодой Блютнер снова исчезал внутри, и лишь произнесенные им термины, обросшие руками и ногами, продолжали кружиться на черной пыльной сцене — именно так Доктор в последнее время представлял свою память.
Блютнер остановился, постоял немного с соседом по улице, профессором и хозяином рыжей таксы. Собаки, блютнеровский пудель и профессорская такса, весело здоровались друг с другом, заглушая тихие приветствия своих хозяев. У профессора были испуганные глаза и нервные губы. В университете он вел семинар по Кафке и Фадееву.
Отойдя от профессора, Блютнер с улыбкой подумал, кого тот ему напомнил. Иосиф, или на их манер — Юсуф, мальчик из Маджнун-калы, хмурый и горячий. Мог часами сидеть на корточках и внимать недовольным словам Доктора, даже когда тот по рассеянности переходил на немецкий. И, что поразительно, — ту голову нашел опять-таки Юсуф, странную, не совсем понятную голову.
Три дня назад Доктор получил от него маленькое письмо. Юсуф поздравлял с Новым годом. Просил адрес Брайзахера. (Доктор хмыкнул, пудель вопросительно задрал голову.) Собирается ехать в Москву, хочет посвятить себя науке.
Сероватый воздух постепенно наполнялся мелкими каплями.
Науке… Блютнер представил Юсуфа лет эдак через тридцать, академиком тире гипотоником, идущим на прогулку с черным оптимистическим пуделем, — исключительно ради того, чтобы вежливо перелаяться со встречными обладателями научных степеней и такс…
И ради этого идти на сделку с духом диалектического отрицания и методологического сомнения? Но разве сам Доктор не заключил ее в молодости?
Как бы написать об этом узбекскому Иосифу, легкомысленной жертве науки… Впрочем, возможно, Марта уже что-то ответила на это письмо. Фрау Марта отвечала на все письма к Доктору. На все, кроме писем «от Ионеско» и еще от «твоих милых кретинов» — так она называла бедное Индоарийское общество, выкладывая перед Доктором очередной пухлый конверт с их крылатой змеей…
С этими мыслями Доктор очутился в узкой прихожей своего коттеджа; Аполло, стряхнув с черных кудрей уличную морось, побежал в комнату бедокурить; оттуда вышла маленькая нестарая женщина с орлиным взглядом. Она мелодично помешивала молоко в керамической чашке и улыбалась. Профессор Марта Блютнер.
«Друзей моих… медлительный уход… в той темноте за окнами…»
Последнее слово Лаги не поняла; еще раз посмотрела и снова не разобрала. За окнами уже сгустилась темнота, теплый вечер тридцать первого декабря.
Год назад тридцать первого они были с Юсуфом; свекровь что-то жарила, Лаги помогала, потом Лаги стало плохо, и они лежали с Юсуфом вдвоем и молчали. Пришла свекровь, вспугнула их и стала говорить о войне. Долго рассказывала, потом заплакала и ушла смотреть телевизор. Они снова остались вдвоем, но уже не лежалось. Юсуф принялся стричь ногти — и начался этот… Медлительный уход. Что-то стало уходить — сквозь ладони, в песок, в темноту под окнами. Побег Юсуфа, смерть отца, невнятные встречи с Маликом, потеря Рафаэля. Лаги вспомнила, как Рафаэль кормил ее в самолете леденцами. Улыбнулась — вот уже и научилась улыбаться прошлому, а ведь это прошлое было всего четыре месяца назад, но виноградник тогда был зеленый, а сейчас облетел и напоминает черные кости.
Лаги зашла в комнату, где играли дети, покормила Султана, через час уложит всех спать… Попробовала манты, вкусно, лениво поковыряла ложкой в морковном салате, постояла у телевизора. Там-то вовсю летел густой снег, и они уже встретили свой Новый год, мужчина и женщина… Отошла от телевизора, надела кримпленовое платье, сняла, снова надела. Досмотрела фильм, грустно подошла к зеркалу и подкрасилась, дети спали, девять вечера. Зажигаются рыжие окна, между телевизором и холодильником сооружаются столы, весело-весело.
Зашла в спальню, набрала номер. Долго не отвечали. Потом что-то щелкнуло, и трубка наполнилась голосом.
— Алло? Алло?
— Рафаэль, — сказала Лаги. — Рафаэль, с наступающим Новым годом.
Говорили полчаса. Полчаса поздравлений, объяснений, еще чего-то. Милый Рафаэль, он чувствовал себя виноватым за тот вечер. Хотел добра.
…принимал больных: на что жалуетесь, разденьтесь, — и тут среди больных Рафаэль обнаруживает… Пропускаем диалог, в котором Рафаэль что-то уточняет и выяснят у молодого узбека, пришедшего на прием. И в руках Рафаэля оказывается муж той женщины, которую Рафаэль любил, но она ответила «нет», — муж той женщины и отец ее сына. Рафаэль понимает, что может устроить ей жизнь, он их соединит, сведет перед своим отъездом…
Гордость энтомолога, спаривающего бабочек. Пытался организовать им счастье, накрыл такой стол, что зашатаешься: последний день рождения на своей земле.
…Когда они ушли, так ужасно ушли, Рафаэль сел за стол, трагически накидал в тарелку салата из печени трески. Включил футбол, чтобы не задохнуться от скорби. Зазвонил телефон: «Ну, как они — мне можно приезжать?» — спросил голос Кузена. Рафаэль траурно кивнул. «А?» — уточнил телефон. Рафаэль начал рассказывать, какая вышла катастрофа. «Я все понял, — перебил Кузен и чихнул. — Привезу к тебе женщину, как раз обожает стихи».
Привезлась женщина, по профессии строитель, любительница поэзии. Спела частушку.
Об этом Рафаэль сообщать Лаги не стал, вообще этот мерзкий вечер уже исчез из головы. Голос Лаги, извиняющийся, милый, лился, лился волшебным нектаром в деформированную от прижатой трубки ушную раковину.
— С наступающим! — кричал растроганный Рафаэль. — Дай Бог вам удачи!
И Лаги стала ждать Артурика, а Артурик стал опаздывать. Десять. Десять сорок. Дома отвечали, что его не было уже с утра, даже вчерашнего.
Дура. Все для чего? Встретила бы одна. Напиться «Монастырской избы», насмотреться телевизора до фиолетовой радуги под глазами. Стать тверже. «И такое платье выгрохать, чтоб качнулись небеса». Э. Асадов. Уже выгрохала, кримплен, можете пощупать. И небеса, наверное, качнулись — вот какая теплынь под Новый год. И стол выгрохала… Как бедный Рафаэль на свой бедный день-рождень. Сколько грохота получилось — и платье, и вино, и стол, и две свечи, когда пробьет двенадцать. Даже одолженная гитара, протертая, с бантиком. Нет только главного героя. Того, кто странствует по предновогоднему городу, от одного стола к другому. Забыв о клятве встретить Новый год с ней. А было ли это клятвой? Дура.
Наверное, та тоже так ждала. Та женщина. Немецкая любовь отца. Как красиво и горько она написала: «Я всматриваюсь в часы, чтобы поторопить время твоего прихода, а когда оно наступает, вслушиваюсь в тишину, чтобы поторопить звук твоих шагов». Луиза! Тебе было много хуже. Холоднее. Больнее. И не было ребенка, чтобы весь смысл жизни не съедался мужчиной. У нее ничего не было, она пишет: «Я банкротка — ладони пусты». И в эту пустоту невзорвавшейся бомбой упал… когда треснула оболочка из шинельного сукна, фройляйн обнаружила тонкое тело радужного дракона… будущего отца Лаги.