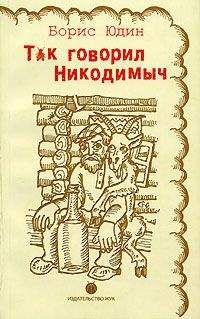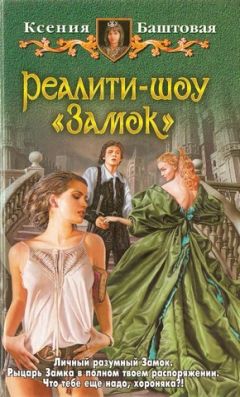Ну и вот. Оставалось этому Миронову служить примерно полгода. И тут приходит в часть правительственная телеграмма. Ну, сразу все зашустрили, забегали... Приодели Бэна во всё новое и отправили в краткосрочный отпуск.
Писаря потом раскололись, что папашка у Миронова умер, и что был он большой шиш, поэтому такая суета.
Короче, вернулся Миронов с похорон – лица на нём нет. Я подошёл, выразил, так сказать, свои соболезнования. А он мне шепотком, мол, земеля, вечером заходи в мастерскую.
После отбоя сели мы с Мироновым в его мастерской, выпили, закусили рижскими деликатесами. Я и спрашиваю:
– Бэн! А что с отцом случилось?
Смотрю – у него желваки на скулах ходят. Говорит:
– Я тебе, Миша, сначала эпизод из кинофильма расскажу. Вот, представь себе – латышский хуторок. С одной стороны лесок, с другой луг. В доме на кухне бреется русский майор в нижнем белье. Время от времени слышно, как пролетают самолёты, как вдалеке рвутся снаряды. И вдруг в кухню входит немецкий офицер. Пауза. Потом немец говорит:
– Ты не волнуйся, коллега. Я не буду стрелять. Война закончена. Гитлер капут. Я прилетел забрать свою женщину.
Русский отвечает по-немецки:
– Я не волнуюсь. Я бреюсь. А эта женщина моя, и я её не отдам.
И тут входит женщина с тазом белья в руках.
– Айна! – говорит немец. – Поехали со мной. Я на самолёте. Бросай всё и полетели. В Швеции нас уже ждут.
– Решай, Айна, – говорит майор по-русски. – Только помни, что у тебя есть отец и брат, и что их расстреляют.
– Я не поеду с тобой, Карл, – говорит Айна. – Я люблю Лёву и я жду от него ребёнка.
– Тогда немец козырнул и вышел. Взревели моторы и поднялся в воздух Мессершмидт с полянки.
– Хорошо, что мы в кусты мой самолёт загнали. А то бы шёл сейчас пешком, – сказал русский майор.
Я выпил водки и сказал Бэну, что кино, конечно, интересное, но всё это неправда.
– Как это неправда? – обиделся Миронов. – Айна – это моя мама. А русский майор... мой отец. Он после войны частенько к нам заезжал. Вот я и родился. У него таких, как я, детей было... четверо парней и одна девушка были на похоронах. И все усыновлённые. Более того. Мы получили богатое наследство. Но... я откажусь от наследства, Миша. И фамилию свою сменю. Как ты думаешь, Зариньш – это красиво будет?
Я сказал, что красиво, мы снова выпили, и я спросил:
– А что с Карлом?
– Я пробовал его разыскать, – ответил Бэн, закусывая. – Мне ответили, что он погиб в войну.
Он помолчал ещё и поставил точку в разговоре:
– Он застрелился, этот кабан. Он был директором авиазавода. А там взорвался один из цехов. Вот этот гад и застрелился.
Представляешь! Он насиловал мою маму! Он всю жизнь её насиловал! Сволочь. Мама мне сама об этом после поминок рассказала.
И тут, Боря, я понял, что на земле в самом деле стало одним Мироновым меньше и появился ещё один Зариньш.
Снова пронёсся истребитель, оставив за собой белесый след.
– Вот, и судите сами, Боря, к чему это я Вам рассказал. То ли о лётчиках, то ли о любви, то ли о том, как ненависть рождается...
Михал Михалыч тяжело поднялся со скамейки и пошёл в сторону своего nursing home.
Когда Иванов вышел на общую кухню, там уже топтались соседи. Пенсионеры Фёдор и Лиза были стариками чистенькими и мирными. Любили, чтобы их называли по имени-отчеству и тихо страдали алкоголизмом. И в этом, без сомнения, виновато было то, что магазин располагался как раз через дорогу от дома. А среди страждущих опохмелки мужиков, было немало принципиально непьющих из горлышка. И каждый знал – нужно стукнуть Фёдору Мироновичу в окошко и он вынесет стакан. За такой сервис хозяину посуды положено было налить. Поэтому уже к обеду Федя и Лиза не держались на ногах. Но сегодня – другое дело. Сегодня было воскресенье и магазин был закрыт.
– Выходной сегодня, – декларировал Фёдор Миронович, увидев Иванова, – Потому что сегодня будем культурно отдыхать. Скажи, Лизавета Антоновна.
– Чистая правда, – подтвердила Лиза. – Вот и племянница с мужем приехала. Настя, поздоровайся с Петром Иванычем.
Настя, рыхлая молодая женщина с глазами, подпорченными базедовой болезнью, протянула руку и басом представилась.
– Очень приятно, – сказал Иванов. Поставил чайник на плиту и пошёл к себе.
В коридоре его догнала Лизавета:
– Пётр Иваныч! Дорогой. Ты нам, как сын родной. Займи десятку до пенсии. Сам видишь – племянница с мужем приехали. Как не угостить? А тут как раз в аптеку дешёвый лосьон выбросили. Затаримся, и на пляж пойдём. Отдохнём культурно, как люди.
Иванов молча вынес требуемую купюру.
– Ишь, какой ты неразговорчивый, Пётр Иваныч! – посетовала старуха. – Прямо, как сыч. То-то не идёт за тебя никто. Молчун ты – поэтому никто на тебя и не зарится.
Иванов только усмехнулся и пожал плечами.
Весь день Иванов просидел в читальном зале городской библиотеки. Он листал альбомы с репродукциями художников Возрождения и думал о том истинном возрождении духа, которое сделает человека человеком, и которое, несомненно, придёт через высокое искусство.
– Всё очень просто, – вдруг сообразил Иванов. – Нужно только, чтобы однажды люди раскаялись в содеянном и поняли бы, что они прекрасны и неповторимы. И вот это осознание красоты не позволит впредь погрязнуть в скверне и пороке, не позволит уронить своё человеческое достоинство. Действительно – красота спасёт мир.
К вечеру Иванов устал думать и пошёл домой. Нет! Не пошёл, а полетел, окрылённый тем, что внезапно ему открылось.
– Завтра же, – бормотал Иванов на ходу. – Да. Непременно завтра – рассказать всё это людям. Открыть им глаза. Они поймут. Они оценят. И жизнь будет легка и чудесна!
В коридоре остро пахло дешёвой парфюмерией. Иванов подошёл к своей двери, но войти не успел – его остановил Фёдор Миронович:
– Пётр Иванович! Уважь! Зайди – посидим, как люди. По-соседски.
Иванов замялся было, но старик схватил его за руку и затащил к себе.
На столе посреди комнаты стояла незамысловатая закуска. Мутная жидкость покоилась в графине. И стоял всё тот же отвратительный запах парфюмерного магазина.
Иванов присел за стол:
– Хорошо. Я посижу с вами, конечно. Только пить не буду. Я не умею и не хочу.
– Пейте, братцы, лучше тут:
На том свете на дадут... – заорала Лизавета Антоновна, вращая в такт песне кистями рук.
Фёдор Миронович налил и сказал тост:
– Ну, значит, земля ему пухом.
А Лизавета продолжила:
– Все там будем. Только в разное время.
Иванов растерялся:
– Простите... Я не понял... Так что? Кто-то умер?
– Утонул, короче, – объяснил Фёдор, закусывая холодцом.
А разговорчивая Лизавета добавила детали:
– Пошли мы, значит, как люди, на пляж. Сели. Выпили, поговорили. Настя со своим купаться пошли. Молодые они, вот и пошли. Ну, пошли они купаться в реку, а Тимка ейный взял и утонул.
– Как? – вскрикнул от неожиданности Иванов.
– Молча, – сказал Фёдор и начал наливать.
И тут вступила племянница Настя:
– Я его тянула за волосы, тянула, а потом устала... да пошёл ты!..
– А почему же Вы на помощь не позвали? – спросил Иванов шёпотом. – Ведь, люди вокруг.
– Я его тянула, тянула, а потом... да пошёл ты... – как зомби, бормотала Настя, не слыша Иванова.
– Однажды морем я плыла... – завела песню Лизавета Антоновна.
И остальные дружно подхватили:
– ...На пароходе том...
И никто не заметил, что, внезапно осунувшийся лицом, Иванов уже ушёл, чтобы разочарованно курить всю ночь и слушать как чужие шаги за окном живут непонятой и страшной жизнью.
Лекарство в рецептурном отделе аптеки обещали приготовить к девяти часам вечера. И уже без четверти девять Светлов стоял у стеклянного заборчика, с вырезанным окошечком. Там, за этим заборчиком шла своя таинственная, непонятная дилетантам жизнь. Там блестели скляночки, там шелестели крылышками продолговатые рецепты, там хранили равновесие лабораторные весы и грозный пест до поры до времени дремал в ступке.
Аптека была пуста. Только возле того отдела, где продавался товар без рецептов совещалась парочка.
– Пойди, спроси у пассажира! – настойчиво советовал худощавый мужик своей подруге.
«Пассажир», вне всяких сомнений, был Светлов. Просто потому, что никого другого в аптеке не было.
Женщина потопталась, собралась с духом и подошла к Светлову.
– Мужчина! – потянула она Светлова за рукав, – добавьте шестнадцать копеек. А то у нас не хватает.
Она по-собачьи снизу вверх и чуть наискось заглянула Светлову в глаза.
– Нет, – сказал Светлов. И сам испугался своей категоричности.
– Мужчина! – она дохнула в лицо Светлову прокисшим. – Ты дашь мне, а я тебе.
Светлов не понял и это было видно.
– Ну что не понял? – наседала женщина. – Мужик ты или нет? Давай шестнадцать копеек. А выйдем я в подъезде дам тебе сунуть.