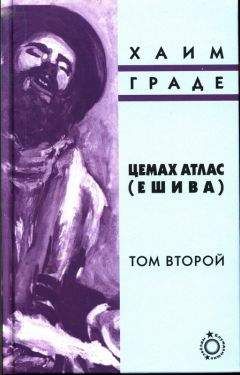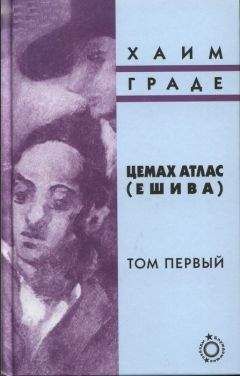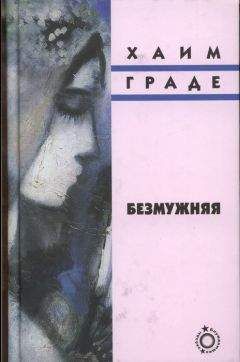Однако на смолокурню реб Менахем-Мендл не пошел. Ведь Махазе-Авром уже один раз высказал свое недовольство тем, что реб Менахем-Мендл пришел к нему жаловаться. Так что же ему, реб Менахему-Мендлу, снова идти теперь с жалобами? Он только отвлечет Махазе-Аврома от изучения Торы, а сам окажется в роли сплетника. А вот к директору ешивы он зайдет и поговорит с ним серьезно. Реб Менахем-Мендл нашел своего товарища вечером на квартире. Он открыл дверь в комнату директора и вошел в темноту. Цемах лежал на кровати в одежде. Голубоватый неверный ночной свет играл на его осунувшемся, бледном лице, окруженном разросшейся черной как смоль бородой. Цемах сел и спустил ноги с кровати.
— Почему вы не зажигаете огня? Вы что, не дай Бог, больны? — спросил реб Менахем-Мендл.
— Я здоров, но огонь мне мешает, — недружелюбно ответил директор ешивы. Реб Менахем-Мендл оставил дверь наполовину открытой, чтобы в комнату проникал хоть какой-нибудь свет из соседней комнаты. Он уселся в полутьме на стул поближе к входу и принялся рассказывать о том, что происходило в ешиве. Какое-то время Цемах сидел на кровати потрясенный и бормотал:
— Вся ешива принялась за чтение нерелигиозных книжек?!
Однако вскоре им снова овладели подавленность и бессилие.
— Пока что я в таком состоянии духа, что ничего не могу сделать.
— Так откажитесь! — вскочил со стула реб Менахем-Мендл. — Я до сих пор не знаю, что с вами произошло. Но как бы то ни было, если вы больше не чувствуете в себе сил управлять ешивой, то откажитесь!
— Да-да, у ешивы должен быть лучший директор, чем я, — мрачно кивнул в знак согласия Цемах, став вдруг похожим на какого-нибудь душевнобольного из Декшни.
— Если вы откажетесь, то будут искать и найдут другого директора, — воскликнул реб Менахем-Мендл и с наивным чистосердечием рассказал реб Цемаху Атласу о своем разговоре с детьми раввина.
— Долго искать не придется, — поднял голову реб Цемах Атлас, и в скупом свете, проникавшем в его комнату из соседней, освещенной, его глаза заискрились черным углем. — Я знал, еще как знал, что сын и зять раввина хотят забрать у меня ешиву. А что они, Сендер-свислочанин и Гершл-жвирянин, еще вам обо мне сказали?
— Никто вас в доме раввина, не дай Бог, не оговаривал. Напротив, сам раввин рассказал, что Махазе-Авром заступается за вас, не дает пылинке на вас сесть, — ответил реб Менахем-Мендл. Однако эти его успокоительные и честные слова только испортили все.
— Значит, вы признаете, что Сендер-свислочанин и Гершл-жвирянин ходили на смолокурню, чтобы говорить там против меня, но Махазе-Авром за меня заступился. А я доныне даже не слыхал[58], что Махазе-Авром мне такой душевный друг и заступник, — заговорил Цемах злым и издевательским тоном, стиснув свои руки подрагивавшими сжатыми коленами. — Я прекрасно понимаю, что на уме у этих двоих моих бывших товарищей! Вы можете передать им от моего имени, что они не станут моими наследниками. Я основал эту ешиву, я был и остаюсь ее главой и директором!
— Конечно, конечно, оставайтесь первым главой ешивы и ее директором! Вам только надо снова начать заходить в вашу ешиву и проводить уроки, а также обратить внимание на поведение учеников, — воскликнул реб Менахем-Мендл. Но как только он заговорил о войне, которую необходимо начать против светских книжек, директор ешивы снова погрузился в состояние мрачной беспомощности и сказал, что в его нынешнем состоянии духа ничего не сможет сделать.
— Так что же будет? — спросил реб Менахем-Мендл, а реб Цемах Атлас ответил:
— Ничего. Ученики будут читать эти дурацкие истории до тех пор, пока им не станет от них тошно, и тогда они вернутся к изучению Геморы.
Низенький, худенький глава ешивы шел по Синагогальной улице к себе на квартиру помрачневший, как будто в его голову проник мрак комнаты директора ешивы. Помимо бед реб Менахема-Мендла в ешиве, жена не переставала жаловаться ему в письмах на то, что больше не может быть одна. К тому же он страшно тосковал по их мальчику.
На квартире у реб Липы-Йоси в последнее время тоже был ад. Жена резника ссорилась со своим мужем намного больше, чем раньше, а ее отец реб Липа-Йося кричал зятю с бешеной злобой, что тот своего не добьется. Чего хотел реб Юдл и чего он не добьется, реб Менахем-Мендл понятия не имел. Во всяком случае, он не собирался бросать ешиву на произвол судьбы, возвратившись в Вильну. Он станет вести уроки, пока ученики будут приходить его слушать. А обывателям он скажет, что сделал все, что мог, чтобы остановить эпидемию нерелигиозных книжек. Большего он сделать не может.
Молодые женщины сидели на крылечках, поздравляя друг друга. Жена резника Хана-Лея снова была беременна и ходила между соседками, заламывая руки: сердце подсказывает ей, что на этот раз она родит мальчика, а ее Юдл готовится сам сделать сыну обрезание. Женщины ужасно издевались над Ханой-Леей, говоря, как бы ее муж, этот недотепа, не зарезал сына, как он портит скотину, которую режет так, что она становится некошерной. Реб Менахем-Мендл, квартирант резника, не знал, почему реб Липа-Йося и его дочь в последнее время так беснуются по поводу младшего резника, точно так же, как не понимал, почему у этих женщин, сидящих на крылечках, так хорошо на душе, что они непрерывно смеются.
Понемногу жители местечка разошлись, в синагоге погасли светильники, обыватели вернулись домой после изучения Торы. Окна синагоги выглядели словно затянутые облаками грусти. В конце месяца ав, прозванного ав-утешитель[59], сыны Торы начали приходить в синагогу и по вечерам, а наиболее прилежные засиживались и за полночь. Теперь ешива пустовала, темнота таилась во всех ее углах. Ученики сидели по квартирам или в странноприимном доме и читали светские книжки. Вместо голоса Торы по ночам раздавался из прибрежных кустов задорный смех, то и дело взвизгивали девушки. Парочки из библиотечной компании лежали там, как дикие утки в камыше. Надгробия на противоположном берегу прятались глубже в траву и в темноту, чтобы не слышать этого затаенного шушуканья, этих звуков развратных поцелуев и голодного мычания. Высокие кусты над головами спрятавшихся в них парней и девушек раскачивались, трепетали в такт их вожделению, вода припадала к берегу с тихим плеском затаенного лихорадочного желания.
После полуночи парочки выбирались из своих укрытий. Парни и девицы, обняв друг друга за талии или за плечи, отправлялись к рыночной площади. С тех пор как библиотекарей утром в субботу «Нахаму» вышвырнули из синагоги, по местечку ходили как новая поговорка слова, которые реб Гирша Гордон крикнул Дону Дунецу: «Мидраши, говоришь? А кисти видения ты носишь?» После полуночи эти черти из библиотеки выстраивались в ряд напротив дома реб Гирши, Меерка Подвал взмахивал рукой, как мечом, и вся компания в полную грудь рявкала, как полк солдат на параде:
— Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, который освятил нас Своими заповедями и дал нам повеления о кистях видения.
— Цицес![60] — разносилось по пустому рынку и между домов, как будто черти скакали там. Откуда-то набегал пыльный ветер, подхватывал этот крик и разносил его по местечку:
— Цицес! Цицес!
Эхо рассыпалось и неслось на противоположный берег реки через деревянные мосты.
— Цицес! Цицес! — как будто покойники пробудились с криком, что приходит время воскрешения мертвых, и требуют, чтобы им принесли на кладбище арбеканфесы с кошерными кистями видения.
Жена реб Гирши Гордона садилась на кровать, обливаясь потом. Каждую ночь она ожидала этих проклятых голосов и вздрагивала, услыхав их. Реб Гирша тоже садился на кровати, давясь злостью. С непонятно чьими голосами из ночи он не мог бороться. Эти безбожники выкрикивали: «Мидраши, говоришь? А кисти видения ты носишь?» — и эти слова подрывали его авторитет в глазах людей гораздо больше, чем его многолетние конфликты с противниками. Даже очень религиозные обыватели улыбались в усы этой дурацкой шутке, этим словам, вырвавшимся по ошибке, когда он кричал на этого безбожника Дона Дунеца. Реб Гирша рвал на себе бороду, скрипел зубами и ворчал в темноте, обращаясь к жене:
— А ты еще настояла, чтобы Бейнуш остался на лето в местечке! В Каменце он бы сидел и учил Тору, а здесь шляется без дела со своей резной тросточкой…
Жена не хотела раздражать мужа еще больше, она молчала и думала о том, что он действительно жесткий человек, как говорят люди. Ведь Бейнуш был сыном Гирши от первой жены. Тем не менее именно она относилась к пасынку как к родному сыну и высказала мнение, что раз уж Бейнуш остался в местечке на какое-то время после Пейсаха, чтобы проводить своего деда, старого валкеникского раввина, уезжавшего в Эрец-Исроэл, так пусть уж останется на все лето и наберется сил. Он слабый паренек, гораздо болезненней других ешиботников, сидевших в Валкениках на даче. Раз в жизни Гирша послушался ее и вот теперь злится и кричит: