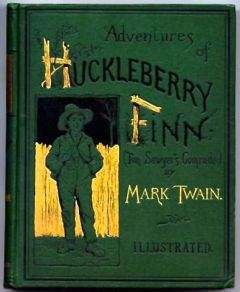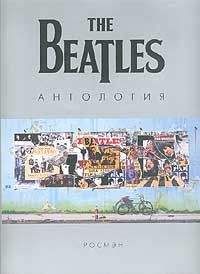83
На обратном пути, около полуночи, мы пошли пешком за лодочную станцию, земля на тропинке была влажная, под темными ивами журчала вода, чувствовался аромат ночи. Конечно же, The Far East…[145]
В какой-то момент мы оказались в заброшенном саду, где между фруктовых деревьев обнаружили качели, раскачиваясь, как маленькие дети, мы моментально вошли в ритм. Мы высоко поднимались, летя навстречу друг друг, а затем головокружительно опускались к земле, наши ноги были напряжены, на ней была черная юбка, и при каждом взлете я замечал белый отблеск ее тела, ее бедер. «The Far East… Nothing wrong with illusion[146], пока ты в них веришь», — за несколько дней до этого сказал мне Майк. Именно, пока ты в них веришь. Жизнь — это взаимодействие иллюзий, умение их сдерживать и принимать только то, чем они являются.
Я сказал, что если она замерзла и хочет согреться, то у меня в кармане, как у хорошего матроса, есть фляжка виски. В то время я редко путешествовал без нее, она до сих пор стоит у меня перед глазами: в форме полумесяца, из синтетического материала, фляжка была прочной, готовой ко всем жизненным испытаниям, обтянутая и защищенная кожаным чехлом. Я регулярно пополнял флягу (в основном «Джонни Уокером»). Фляжка долгие годы сопровождала меня в славных путешествиях, до тех пор пока донышко не начало незаметно протекать, и это после всей нашей дружбы, после жизни, которую мы вместе прожили, я не стал искать ей замену, впрочем, так ничего никогда не заменял с того времени.
В конце концов мы нашли то, что нам было нужно в баре Университетского центра: шахматы и две бутылки кока-колы, с которыми мы поднялись на второй этаж. Мы расставили фигуры на доске, и я сказал, что хочу знать, до какой степени она меня любит, первым начал игру, передвинув пешку вперед, и добавил:
— During those three days in London with Franz and you parents, did you tell him just once that you loved him?[147]
Мэйбилин молчала.
— По крайней мере, ты помнишь, целовалась ли ты с ним?
Я убеждал, что мое к ней отношение не изменится в зависимости от ее ответа.
Она сказала, что они целовались.
— You’re a bitch[148].
— Непонятно, кто — главный герой, — заметила Мэйбилин с огромным вопросом в голосе. Ее голос немножко дрожал. Возможно, она даже собиралась заплакать?
Непонятно, кто главный герой? Я рассказал всю эту историю для того, чтобы главным героем стал Франц.
Что она имела в виду? Все было непонятно и при этом абсолютно ясно.
Мэйбилин объясняла, что она принимала мой французский характер. Как сам французский язык, легкий, неглубокий, он позволял поверхностно смотреть на вещи. Немецкий же язык тяжелый и глубокий. Что непростительно по-немецки, может быть вполне допустимо по-французски. И поэтому… Я опрокинул шахматную доску: король, королева, ладьи, кони катались по столу, по кафельному полу.
Я спросил у Мэйбилин:
— А тебе на моем месте не было бы больно и плохо, ты бы не злилась, я бы не вызывал у тебя отвращение? Wouldn’t you be sick and tired? Да, именно боль и отвращение?
— Да.
Мэйбилин ответила, что согласна с моими упреками, а мне осталось сказать, что все кончено.
— Тебе остается сказать, что все кончено, — повторила она.
— Все кончено… Я в отчаянии.
Я встал, надел пиджак и накинул на плечи шарф.
Она заметила:
— У тебя это хорошо получилось.
Мэйбилин произнесла это улыбаясь. Я не мог тоже не улыбнуться.
А может, все было по-другому
— Все кончено… Я в отчаянии.
Я встал, надел пиджак и накинул на плечи шарф.
Она заметила:
— У тебя это хорошо получилось.
Мэйбилин произнесла это улыбаясь. Я не мог тоже не улыбнуться.
Мы вместе спустились по лестнице, огромное зеркало, которое ждало нас внизу, отражало нас в полный рост. Я улыбался, удивляясь, что не знаю, почему улыбаюсь. На улице я держал зонтик над нашими неподвижными фигурами, затем я обнял ее, и она заплакала.
— Но ты же знаешь, что я тебя люблю, — прошептала она.
Это звучало как бесконечный упрек. Мэйбилин сказала, что мне нравится быть с ней жестоким. So mean.
— Почему, почему ты так жесток? Тебе это нравится!
Я ответил: «That’s not true[149], но мне по-настоящему хочется ударить тебя».
Она залилась слезами, прижавшись ко мне. Шел дождь, улица была мокрой и скользкой, мимо проезжало такси, я его остановил. Я посадил ее внутрь и сел рядом. Я спросил, неужели ей еще больно оттого, что у меня сорвалось, что по-настоящему хочу ее ударить. Мэйбилин ответила «нет», а я спросил, зачем она сказала «нет», если на самом деле ей больно. У нее появилась жалкая улыбка. Мэйбилин думала, что я все это сделал нарочно, чтобы ранить ее, и что мне будет приятно услышать that is was still hurting[150].
На следующий день я встретил Мэйбилин между «Кенко» и автобусной остановкой. Она ждала 110-й автобус, чтобы отправиться в Ньюмаркет. Рядом с ней стоял тип, я его узнал, так как на нем был только один ботинок, — нищий, которому я давно, еще в начале моего пребывания в Кембридже, в порыве радости дал десять фунтов, но он на них так и не купил себе второй башмак. Мэйбилин спросила, что мне нужно. Я сказал, что не хочу любить никого, кроме нее, что в моей голове звучит песня группы The Platters «Only you». Либо она, либо никого. И к тому же я, как и она, жду автобус до Ньюмаркета. Она слегка улыбнулась и произнесла, что со всеми этими вещами у меня вид «отца семейства» — сейчас очень трудно вспомнить, какие именно вещи у меня были (ранец? бинокль? зонтик? пальто, перекинутое через руку?). Я вместе с ней вошел в автобус, сел рядом, но, как только захотел открыть рот, Мэйбилин перебила меня поцелуем, прошептав, что будет так делать всегда, когда я буду «злым».
— Don’t you know I’ll miss you?[151] — спросила она, намекая на будущее, как будто оно уже наступило. Знал ли я, что мне будет ее так не хватать? Что я должен был ей ответить?
В Ньюмаркете мы вышли из автобуса, пересекли парк, покрытый свежей зеленью, и вышли к ипподрому — с 1622 года Ньюмаркет известен своими скачками, the Newmarket flat racing! Мы заплатили, чтобы войти внутрь, купили по апельсиновому соку и поднялись по ступенькам на трибуну. Ни она, ни я ни разу не были на скачках. Для нас обоих это был новый опыт, мне больше всего нравилось, что рядом с Мэйбилин все было новым: сама жизнь, как новое испытание, каждый ее поцелуй. Я не был согласен с Тимом: попробовав целоваться, ты испытываешь вкус всех поцелуев, однажды, занявшись любовью или прожив один день, ты сразу все понимаешь и можешь приступать познавать новое. Мы смотрели, как люди были увлечены скачками. Я поставил два фунта на лошадь по кличке Рубикон, просто положившись на удачу. Чтобы выиграть, удача значит не меньше, чем все остальное. Мэйбилин купила швепс, а я пиво. Затем мы снова уселись на ступеньки, ожидая, когда на старте появится Рубикон. Так как Мэйбилин смотрела на меня в профиль, она снова завела разговор о носах — форме, изгибе, связи со лбом, обо всей этой геометрии с циркулями, измерениями и углами… Она превращалась, как минимум, в палеоантрополога, я даже представлял, как она вышагивает по африканскому Рифту. Выстрел заставил нас подпрыгнуть, мы увидели, как лошади стартовали с пол-оборота, наше возбуждение было сумасшедшим, мы даже не предполагали, что способны на такое. Рубикон, казалось, мчался в пустоту, топтался на одном месте, нам почему-то было стыдно за него, мы были уверены, что наши подбадривающие крики и неистовость толпы позади нас должны ему помочь выправить положение, но Рубикон все равно продолжал плестись в хвосте, и мы потеряли два фунта. Когда ехали обратно, в автобусе я напомнил Мэйбилин, что через месяц ухожу в армию. Будет ли она меня любить, если я не стану капитаном, капитан-лейтенантом или командиром дивизиона? А еще я спросил, какие письма мы будем писать друг другу, когда больше не будем видеться, когда, через несколько дней покинув Кембридж, мы разъедемся в разные стороны. Какие? Это был опасный вопрос. «В интонации как раз и заключается все различие», — подумал я. Иногда, вопреки своей воле, ты меняешь тон, даже если этого не хочешь.
— Ты хочешь сказать, что в твоих письмах будет сквозить горечь?
— Да, горький вкус лимона. Кислый. Понимаешь, со мной не будет твоих поцелуев, чтобы это исправить?
В этот момент в автобусе мне больше всего нравился ее конский хвост, Мэйбилин зачесывала так волосы после того, как мы ездили в Мэдингли, все последние дни она носила конский хвост, как будто уже пыталась измениться, предвосхищая свой отъезд. Ее прическа заранее говорила мне о переменах. Этот хвост уже повернулся в будущее, забавно пританцовывая, он делал вокруг головы маленькие движения, еле уловимые взмахи в разные стороны. Многие девушки делают конский хвост, чтобы сводить ребят с ума. Казалось, что ее хвост изящно следовал за головой, но на самом деле все было наоборот. Конский хвост предвещал перемены в самой Мэйбилин, и я грустно подумал, что люблю ее даже с этим хвостом, если еще не сильнее. Конский хвост гарцевал на затылке, разлетаясь тонкими стрелами на голубом свитере.