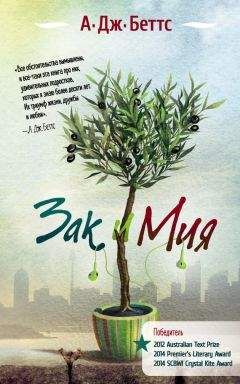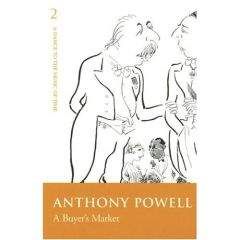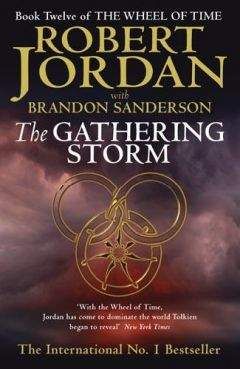Интересно, что бы он сказал про девушку в моей постели. Она вроде бы согрелась, или мне так только кажется? Что бы сделал папа на моем месте?
Утренний свет мягко ложится на кровать. Я смотрю, как Мия дышит во сне, и пытаюсь дышать с нею в ритм. Мия. Ну надо же. Перекрасилась в блондинку. Челка неестественно ровная…
Теперь каждый звук меня пугает. Скрипнула половица – мама пошла стирать? Шорох травы – папа с Эваном идут к оливам. Оголтелое кудахтанье:
Бекки кормит цеплят. Наверное, все уже думают, что я заспался.
Я на цыпочках подхожу к окну и отодвигаю занавеску Куры и петухи клюют свой корм. Бекки не видно. Тогда я опускаю занавеску и разворачиваюсь. Мия уже открыла глаза и смотрит на меня. Волосы рассыпались по ее лицу, но она их не убирает.
– Привет.
Она моргает, продолжая смотреть на меня, но ничего не отвечает. Мне почему-то тяжело выдерживать этот взгляд, и я начинаю разглядывать свои руки, которые не знаю, куда деть. Я вообще не понимаю, что теперь делать!
Открываю рот, чтобы спросить, как она оказалась в моей комнате, но решаю, что вопрос «как» потребует слишком длинного ответа, так что выбираю другой:
– Ты заблудилась?
Вот я дебил. Как можно случайно попасть из Перта на южное побережье? Разумеется, она не заблудилась.
Кто-то идет. Я вижу, как зрачки Мии расширяются, и она быстро садится в кровати. Кто-то берется за дверную ручку.
– Зак, ты там?
– Да, – хрипло отзываюсь я.
– А чего заперся? Давай, вставай уже. И белье сними, я в стирку положу.
Но я не могу снять белье, потому что на нем сидит девушка, которая к тому же недвусмысленно поглядывает в сторону окна.
– Я хочу еще поваляться, – говорю я. – Даже Господь на седьмой день отдыхал от дел.
– Господь? Зак, с тобой все в порядке?
– Мам, я просто дочитываю седьмую главу «Гордости».
– Ну белье-то можешь мне отдать?
– Я уже несколько месяцев не хожу под себя, ты забыла?
– Мальчишки, – вздыхает мама. – Короче, не валяйся весь день напролет, Бекки одна не справится.
Затаив дыхание, мы слушаем, как мамины шаги удаляются. Мия прижалась к стене.
– Извини, – говорю я, хотя неясно, за что мне извиняться.
Ее лицо в обрамленьи коротких светлых волос совсем не похоже на то, которое я видел в больнице. Она стала другой. И дело не только в стрижке.
Мия тоже меня разглядывает. Я внезапно спохватываюсь, что стою с голым торсом, и чувствую непривычную уязвимость. Она жадно рассматривает мои шрамы: справа на груди, еще один на шее, точечные – от катетеров – на внтуренней стороне рук. Она точно знает, куда смотреть. И, по-видимому заметив то, чего ожидала, немного расслабляется.
– Фух, это действительно ты, – выдыхает она. – Ты здорово изменился, Хельга.
– Зак, – напоминаю я. – Ты тоже изменилась.
– У тебя глаза, оказывается, серые.
– Вообще-то голубые.
– В этом свете – серые.
Она смахивает с лица челку, а я складываю руки на затылке, сцепив пальцы. Папа так делает, когда ему нужно оценить ситуацию.
Что мы имеем? Девушка материализовалась из палаты с белыми стенами, которая четырнадцать недель как осталась в прошлом, и которая находилась в 500 километрах отсюда. Пожалуй, теперь можно и спросить.
– Как ты сюда попала?
Но она опускает взгляд и молчит.
– С тобой все хорошо?
На это она собирается ответить, но слова как будто застревают у нее в горле, и она морщится, словно нужно глотать колючки.
– Что случилось? – спрашиваю я, уже понимая, что у нее не хватит сил рассказать.
В свой последний день в больнице я хотел распрощаться с Ниной, но она, завидев меня из другого конца коридора, резко развернулась и ушла в другую сторону. Я заподозрил тогда, что она не хочет отвечать на вопросы про Мию, а значит, операция прошла неудачно. Но уточнить не было возможности. Всю дорогу домой мама тараторила, словно нарочно пытаясь меня отвлечь от этих мыслей, и ее даже не пришлось уговаривать остановиться у «Макдональдса», как обычно, хотя меня к тому моменту и перестало наркомански тянуть на бургеры. Я ехал домой, а Мия в это время приходила в себя после наркоза и обезболивающих, и чувствовала себя тяжелой и мутной, возвращаясь в мир. Чем этот мир встречал ее по пробуждении, кроме шрама? Я думал о ней, но ничего не знал, и спросить было не у кого.
– Прости, – говорю я.
Она напрягается.
Хлопает дверца клетки – мама кормит цыплят. Скоро пойдет готовить лавку к посетителям, а Бекки начнет обход на предмет родившихся и умерших. Я должен ей помогать.
Звуки жизни снаружи болезненно вторгаются в молчание, царящее в комнате. Мия натягивает одеяло на голову.
– Мия, зачем ты пришла?
Она молчит, спрятавшись, как в домике.
Что бы сделал папа? Оставил бы ее в покое? Взял бы на руки и понес спасать? Но в духовку она не влезет.
Я надеваю футболку и выхожу из комнаты. На кухне я делаю тосты с сыром, помидором и соусом. Пока они остывают, грею в микроволновке растворимый какао с молоком и затем отношу все в комнату. Мия продолжает прятаться под одеялом, так что я ставлю еду на пол.
Потом я ухожу в гостиную и сажусь на диван с книгой, где делаю вид, что читаю седьмую главу. И так проходит несколько часов.
Когда Бекки заглядывает проверить, все ли в порядке, я извиняюсь и говорю, что мне обязательно нужно дочитать еще три главы. Она с легкостью верит, и мне стыдно, что пришлось ей врать.
Я не знаю, что за жизнь у Мии. Вообще-то я ничего о ней не знаю. Что заставило ее ехать не куда-нибудь, а именно сюда, если в Перте у нее огромная группа поддержки. Помучавшись еще минут десять, я возвращаюсь в комнату. Тарелка и чашка пусты, одеяло скомкано, а Мия стоит у моего шкафа и роется там. Заглядывает в коробки с «Лего», сбрасывает с полки подписанный мяч, находит два «Плейбоя», спрятанные под коллекцией марок. Я даже неловкости не испытываю: ну да, когда-то женские тела казались дивным инопланетным миром.
– Помощь не нужна?
Она вздрагивает и поворачивается.
– Ой. Хельга.
– Зак. Ты что делаешь?
Она вздыхает, задумывается на секунду и признается:
– Мне нужны деньги.
Он предлагает мне 40 баксов из ящика с трусами. Я закрываю глаза и тру пальцами виски. Блин, ну что за отстой?
– Ты чего? Не бойся, трусы чистые, – смеется он.
У меня нет времени дурачиться. Пока я сидела под одеялом, я придумала план D. Олбани, Аделаида, Сидней. Я посмотрела расписание автобусов с телефона, и можно успеть, но мне нужны чертовы деньги, а сорока баксов мне не хватит.
– А больше нет?
Он кивает на жестянку из-под какао.
– Там мелочь примерно за год. Таскать с собой запаришься, правда. Еще могу предложить коллекцию марок – вдруг там есть ценные экземпляры.
– И все?
Я окидываю комнату взглядом в поисках ценностей. Плакаты, трофеи, мяч с автографом, глобус, гантели, даже турник в дверном проеме. Пахнет дезодорантом и грязными носками. Почему-то в пацанских спальнях всегда пахнет одинаково.
– Что это у тебя?
Он сжимает в руке какую-то с виду железную штуку.
– Эспандер, запястье разрабатывать.
– На фига тебе разработанное запястье?
– Физиотерапевт сказал, что полезно…
Так. Не отвлекаемся. В углу вижу телевизор, игровую приставку и диски с играми. На стене – доска для напоминаний с больничной брошюрой и списком запрещенной еды.
– О, мне тоже такое выдали. Правда, у меня список покороче… Двенадцать месяцев без паштета, вот садисты! Хельга, да как ты выживаешь?
На столе – ноутбук, айпод и сваленные в кучу музыкальные диски. На верхнем я узнаю свой почерк. Леди Гага, в палату № 1. Я беру его в руки и провожу пальцем вдоль контуров букв. Такое ощущенье, что я его подписывала две жизни назад. Помню, еще удивилась, зачем ему Гага. И могла бы отдать ему оригинальный диск, но я тогда дорожила всем, что дарил мне Райс. Так что я переписала его и сунула под дверь палаты. Странно, что он его не выбросил.
Хорошо помню стук в стенку в тот первый день. Как будто он не просто стучал, а пытался что-то сообщить. Я иногда слышала его разговоры с матерью. У него были очень живые интонации. Ни у кого в больнице таких больше не было. Когда никто не видел, и он не знал, что я подсматриваю, у него было очень грустное лицо.
Стоп. Я здесь не ради сентиментов. Кладу диск на место, поворачиваюсь.
– У тебя же есть счет в банке?
– Ты что, шутишь?
– А что, похоже?
– Мия, черт, ну нельзя же так просто… ну то есть… ты что, разве не…
– Что тебе непонятно? У меня время тикает!
Он прислоняется к оранжевым занавескам и скрещивает руки на груди.
– Что мне непонятно? Дай подумаю. Я ничего о тебе не знал целых три месяца. То есть, вообще-то я и до тебя этого не знал, да и видел только через окно в двери. И вот ты сваливаешься мне на голову и просишь денег. Это действительно как-то непонятно.