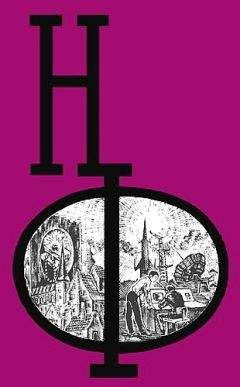— В самом деле? — сказал Макэлпин. — И вы не допускаете мысли, что она… м-м… просто друг их, вот как вы.
— Мне от них не нужно того, что нужно ей, — грубо ответил Роджерс. — И к тому же они рады, когда я у них тут бываю. А ее посещения их совсем не радуют.
— Мне кажется, вы ошибаетесь.
— Я ошибаюсь? — удивленно переспросил Роджерс. — Ладно. По-моему, они кончили свое выступление. Давайте-ка пригласим к нашему столику руководителя джаза. Элтон Уэгстафф понравится вам. Он хороший мужик. Спросите у него, что он об этом думает. Сейчас у него крошечный джаз. А вообще, он человек бывалый. Играл с Эдди Кондоном, с Эллингтоном, возможно, знавал и Бикса.
Подозвав официанта, Роджерс попросил его передать их приглашение руководителю джаза. Через несколько минут Уэгстафф подошел и сел за их столик.
Это был спокойный, сдержанный человек с темной кожей, давно привыкший не удивляться ничему, что происходит в ночных клубах. В пору расцвета джаза Уэгстафф работал в Мемфисе, Сан-Луи и Чикаго. Сейчас он кочевал с места на место, зарабатывал на жизнь, выступая в маленьких ночных клубах негритянских районов, и мечтал о новом возрождении джаза. В его манерах за внешней учтивостью проскальзывало безразличие, но нетрудно было заметить, что к Роджерсу он относился по-дружески, как к своему.
Усаживаясь за столик, он пошутил насчет того, как процветает его оркестр, и все трое согласились, что в наше время, играя в джазе, не разбогатеешь. Макэлпин напряженно ждал, когда Роджерс заговорит о Пегги Сандерсон, но тот вдруг сказал:
— Знаете, Элтон, мой приятель чуть не съел глазами вашу канареечку.
— Я? — ошеломленно воскликнул Макэлпин. — Впрочем, в самом деле, в свете прожектора она мне показалась совершенно золотой. Эти золотистые плечи…
— Красивая девочка, — согласился дирижер. Он встал и сделал знак певице, направлявшейся к бару.
Макэлпин поспешно заказал ей коктейль. Сейчас, когда ее не озарял желтый свет прожектора, ее тело уже не казалось золотым, оно поблекло, кожа стала сероватой. Джим похвалил ее голос. Он попытался настроить себя на те же чувства, какие Пегги, вероятно, испытывала к неграм. Девушка отвечала на его вопросы тоненьким деликатным голоском. Она держалась очень вежливо и производила впечатление беспомощной, беззащитной девчушки. Мало-помалу он начал подпадать под обаяние смуглой нежности ее тела, сочных переливов кожи. «Пожалуй, я мог бы к ней привыкнуть, — подумал он. — Она все время оставалась бы мне чужой, но могла бы вызвать ощущения, которых я никогда еще не испытывал. Это нежное, сумеречное тело, очарование новизны… Бог мой, неужели именно это привлекает Пегги!»
Мулаточка сообщила, что утром отправляется в Чикаго. Блестящие предложения сыпались на нее со всех сторон, ее даже поманило нью-йоркское кафе «Сосайети». Потом она извинилась и сказала, что должна их покинуть, так как условилась встретиться с одним джентльменом, который ожидает ее в баре. Поднявшись из-за стола и пожав руку Макэлпину, она горячо поблагодарила его, сама, впрочем, не зная за что. Когда певица отошла, Элтон Уэгстафф дружелюбно заметил:
— Вы чуть-чуть опоздали, мой друг… Она завтра уезжает. Приди вы дня на два пораньше, могли бы успеть.
— Понятно, — сказал Макэлпин.
Даже этот невозмутимый чернокожий музыкант не верит, что к хорошенькой мулатке человека могут привлекать дружеские чувства, а не желание с ней переспать. И все так думают. Точно так же, как все считают, что Пегги Сандерсон стремится переспать со своими чернокожими приятелями. Ему стало неловко.
— Мне просто очень понравилось, как эта девушка поет, — сказал он.
— Макэлпин друг Пегги Сандерсон, — сказал Роджерс.
— Ах вот оно что! — В глазах музыканта уже не было заметно прежнего дружелюбия. — Красивая девочка, верно? Ну и как, большие вы с ней приятели?
— Да как будто. Она с восхищением… с самой искренней симпатией относится к людям вашей расы, мистер Уэгстафф. Она самый преданный ваш друг, из всех, кого я знаю.
— М-м-да, друг, — проговорил руководитель джаза.
Его смущало это слово «друг», которым негры обычно обозначали симпатизирующих им представителей белой расы. Он никак не мог подыскать нужных слов, хотя обычно говорил легко и свободно. На стол пролилось немного пива. Подозвав официанта, Уэгстафф велел ему вытереть стол. И пока блестящая черная столешница не стала безупречно сухой и чистой, он так и не нашел этих нужных ему слов.
— Не стану спорить, мистер Макэлпин, люди моей расы нуждаются во всех своих друзьях, — сказал он. — Вот с нами сидит Роджерс, он настоящий наш друг. И эта малышка Пегги, может быть, тоже друг. Может быть. Не знаю, что тут вам сказать.
Боясь, как бы слова его не обидели Макэлпина, Уэгстафф пытливо всматривался в его лицо. Макэлпин чувствовал на себе его взгляд и думал: «Когда ты намекал тут, что я мог бы иметь успех у твоей певички, тебя не волновало, друг я или нет».
— Вот сидит она здесь, такая тихая, настоящая маленькая леди, — пробормотал Уэгстафф, обращаясь наполовину к самому себе. — И всегда одна. Сидит себе за столиком в углу, такая милая, нежная, свежая, как цветок, который только и ждет, чтобы его сорвали. Одинокая. Но не отчужденная. Вроде бы само спокойствие, и в то же время так и рвется к вам, но правда ли, мистер Макэлпин? Она не напивается пьяной, она даже не танцует, даже не хлопает громко в ладоши. Просто сидит с нами, и все. Но все мои ребята каждый раз знают — она здесь. И как будто ждут. Да, притихнут как-то все и ждут… чего?
— Я однажды видел, как вы сидели с ней за столиком.
— Возможно.
— Тогда я кое-что заметил, мистер Уэгстафф. Когда вы ее увидели, у вас был такой вид, словно вы не хотите подходить к ней, вас что-то тревожило. А потом вы к ней подсели и тут… одним словом, все снова стало на свои места. Так оно было?
— Глядите-ка, какой приметливый, — сказал Уэгстафф, обращаясь к Роджерсу. — Чем это, вы говорили, он зарабатывает себе на жизнь?
— Я просто не смог этого не заметить, — сказал Макэлпин.
— Да, так действительно было, — неохотно подтвердил Уэгстафф. — Но теперь я твердо решился — больше сидеть с ней не буду.
— О! Отчего же?
— Она мне весь оркестр перебаламутила. Я постоянно жду беды.
— Вы что-то не очень лестно о ней отзываетесь, вам не кажется, мистер Уэгстафф?
— В самом деле? Ну что ж, тогда послушайте, что я вам скажу.
— Ну-ка, ну-ка.
— Я негритянский музыкант. В свои лучшие дни я немало повидал. Немало белых девочек встречалось на моем пути.
Он нахмурился. Слова шли туго, он то и дело задумывался, пытаясь поточнее определить не только для Макэлпина, но и для самого себя, что именно он чувствует.
По большей части, говорил Уэгстафф, всех встречавшихся ему белых девушек легко можно отнести к той или иной определенной категории. Чаще всего это девицы, до безумия увлекающиеся джазовой музыкой и считающие, что, не сблизившись с негром, невозможно ее понять. Обычно это у них чисто головное, поэтому и волнуют они ничуть не больше, чем те белые поборницы расовой справедливости, что затевают дискуссии и пытаются применить на практике свои социальные идеи. Некоторые из них оказывались настоящими друзьями, иные же были просто безвредны. Но и к тем и к другим негры относились хорошо. Они ничего не теряли, оттого что хорошо к ним относились. Точно так же они не теряли ничего, хорошо относясь к тем белым девушкам, одержимым политическими идеями и все свои помыслы отдающим классовой борьбе, которые хотели выйти замуж за негра, считая своим долгом убедиться на практике, что это дело осуществимое и пролетарии всего мира действительно смогут объединиться. Остерегаться нужно было совсем других, тех мятежных, неугомонных красавиц, которым что-то там надоело и которых тянет к чему-то новенькому, выходящему за рамки обычного. С такими девушками цветные никогда не чувствуют себя свободно. Терзаемые подозрениями, они спрашивают себя, чего им нужно, этим белым девицам, постоянно ожидают, что те выдадут себя какой-то мелкой пакостью. Даже если у тебя с ней интимные отношения, ты все равно настороже и скрываешь в душе всегдашний страх, рожденный опытом, потому что даже в минуту экстаза она может вдруг возмущенно завопить, и тебе хочется куда-то броситься, что-то сломать, и ты сходишь с ума от тоски и злости. Эти девицы неприятны тем, что сами только развлекаются, как ребятишки в цирке, а других ранят больно и глубоко. Подобный случай произошел с ним в Париже, куда он приехал со своим джазом. Там одна компания богатых людей взялась им покровительствовать. Однажды весь джаз пригласили на вечер, где были такие вот белые женщины. Он немного поиграл на рожке, им понравилось, и они принялись ласково его упрашивать поиграть еще. Но у него был волдырь на губе. Он сидел на полу по-турецки, и вдруг одна блондиночка подсаживается к нему и начинает нежно так его уговаривать: «Ну же, Дымный Джо, ну» — и потом хлоп его ладонью по лбу. Он так разъярился, что чуть не разорвал ее. «Потише, ты, — сказал он ей, — ты тут не в Штатах, а в Париже». Она вела себя с ним так, что он чувствовал себя собакой или обезьяной. Ему хотелось исколотить ее, но он только расстроил вечеринку. Разумеется, совсем другое дело те белые девочки, что преподносят вам себя будто на блюде. Это простушки. Их можно уверить, что любовь — это свиная отбивная, и они сжуют ее, не охнув. И никому от этого ни холодно ни жарко. А Монреаль хороший город. Здесь можно неплохо жить, и бруклинцы не ошиблись, рискнув подбросить своих темнокожих игроков в монреальскую бейсбольную команду. Они мудро поступили, выбрав Монреаль. В этом городе собралась уйма малых наций, но бейсболисты негры понравились французам, те оказывают им поддержку, и темнокожий парень может здесь жить спокойно, не тревожась ни о чем, если только не будет зарываться, если сумеет кое на что закрывать глаза и не лезть туда, куда не надо. Впрочем, слишком сильно зажмуривать глаза тоже не следует. Вот негры бейсболисты поездили с командой, поглядели на белый свет и теперь рады-радешеньки вернуться в Монреаль.