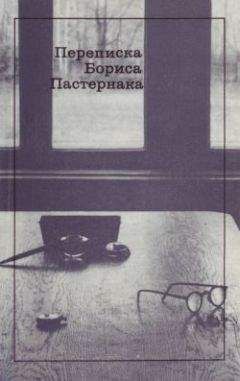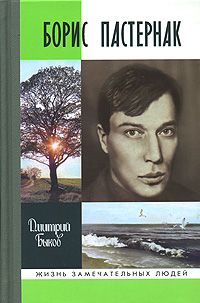Он надел ремень с дощечками себе на шею, тяжело поднялся, встал на четыре лапы и пошел вперед, вдоль сосен. Седая шкура перекатывалась на огромном старом теле.
Они шли втроем по сосновому сумраку и молчали, только снег лунного цвета что-то шептал под их шагами.
Ряды сосен сужались, и скоро не стало места, чтобы троим идти рядом. Старик остановился, отдал Мэбэту одиннадцать лет его жизни.
— Ты, наверное, слышал, как люди говорят друг другу, желая зла: “Чтоб котцы твои опустели, чтоб ты пропал на Тропе Громов”.
— Мне так не говорили, но я слышал…
— Этой тропой вы и пойдете — ты и твой пес. Войпель станет твоим единственным помощником, ведь собаки на Тропе говорят так же, как люди. К тому же только он может видеть границу, где заканчивается один чум и начинается другой. Постарайся не сбиться с пути, иначе пропадешь. Тогда не отыщут тебя ни в том мире, ни в этом.
— Я не собьюсь.
— Не говори так. То, что предстоит, будет слишком трудным для тебя. И если говорить правду, я не уверен, что все это, — Старик тронул когтем связку в руках Мэбэта, — все это ты донесешь в целости. Бывают войны, в которых ни сила, ни ум, ни смелость не приведут к победе. Тогда ты можешь откупиться — вот этим. Пусть не одиннадцать, а девять или семь… Пусть даже один год — для тебя это будет лучше, чем совсем ничего. Взвешивай свои силы, будь лучше хитрым, чем гордым. — Старик повернулся, чтобы уйти. — Хотя там, — он показал лапой в темноту, которой замыкалось ущелье, — там у тебя захотят отобрать все. Все, что мы дали тебе. Помни об этом.
Только исчез Старик, упругий луч серебряного света ударил в лицо Мэбэта. Там, откуда бил свет, заканчивалось сосновое ущелье и начиналась Тропа Громов с невидимыми чумами по пути.
Пройдя чумы, в которых обитали духи болезней, несчастья и обиды, любимец божий потерял один год подаренной жизни.
Три волчьих чума
Из белой пелены возникла стая серых призраков и бежала вдали мерным неторопливым бегом, не приближаясь к человеку и псу.
— Кто они? — спросил Мэбэт.
— Не знаю, — ответил Войпель. — Вижу только — волки. Или похожи на волков.
Останавливался Мэбэт — останавливалась стая. Шли — и стая шла. От непрерывной ходьбы тяжестью налились ноги любимца божьего. Он давно потерял счет времени своего пути, потому что не было на Тропе дня и ночи, восхода и заката, солнца, луны, звезд и небесных мерцаний…
То была не одна стая, а три — духов Тоски, Отчаянья и Страха.
Каждая из них обитала в своем чуме, но все их невидимые жилища слились как бы в одно пространство, разделенное едва заметными границами, ибо тоска, отчаянье и страх всегда рядом. Они рождают друг друга, вырастают друг из друга и походят друг на друга, как волк на волка...
Духи трех волчьих чумов сломили Мэбэта. Когда невыносим стал бег, ноги одеревенели и уже едва держали тело любимца божьего, стая остановилась и взвыла. Этот вой вытягивал душу из Мэбэта, будто через полый стебель, высасывал из него кровь.
Язык сделался сухой колотушкой, корча пошла по телу, и рука сама вырвала из-за ворота связку подаренных годов и швырнула на снег.
Как только рассталась рука со связкой — прекратился вой.
Боль не ушла из Мэбэта, но в нем появилась сила, чтобы встать и идти. Он встал и пошел, как полумертвый, сам не зная куда. Войпель подхватил связку, чтобы вернуть хозяину, но только коснулись подаренные годы руки Мэбэта — снова поднялся вой и снова упал любимец божий.
— Послушай, пес, — сказал Мэбэт, — если ты не отдашь им связку, я прокляну тебя. Нет для собаки ничего хуже, чем проклятие человека. Но даже если ты будешь биться и вернешь мне эти деревяшки, я не приму их у тебя. Я умру, ты умрешь, все умрут — мне все равно. Это ненужный бой. Он ничего не стоит. Поверь мне…
Войпель видел, что хозяин его говорит правду, и не стал спорить: глупо спасать от смерти того, кому жизнь — мучение. Он отошел немного вперед, положил связку на снег, вернулся к Мэбэту и сел подле него — ждал, когда посланцы стаи подберут свою добычу.
Три духа на длинных упругих лапах подбежали к связке, подняли ее и вернулись к стае. Они даже не взглянули на Мэбэта, будто подобрали его подаренные годы как свою законную вещь, оброненную по дороге.
— Спать буду, — сказал Мэбэт, — только спать. И ты спи.
Войпель лег в ногах хозяина.
Спал Мэбэт долго и, может, не проснулся бы совсем — но почувствовал, как чья-то рука несильно и настойчиво трясет его плечо. С трудом открыл глаза любимец божий, и первое, что увидел, — раскрытую ладонь, державшую ремешок со связкой подаренных лет. Увидев руку, вздрогнул Мэбэт. Он не понимал, чья это рука; выходила она как бы из пустоты, в которой едва угадывались размытые очертания человека в малице.
— Возьми, — сказал голос. — Ты потерял — я подобрал. Не теряй больше…
Снова вздрогнуло сердце Мэбэта. Он протянул руку, чтобы взять связку, но пальцы не слушались, и подаренные годы поползли с ладони, попадали в снег, с тонким стуком ударяясь друг о друга. Так и лежала связка на снегу.
Вдруг понял Мэбэт, что, касаясь заветных дощечек, он не чувствует боли и воя не слышит.
— Кто ты?
— Дух…
Помолчав немного, собеседник вновь заговорил, будто предчувствуя вопрос:
— Этих зверей я давно знаю, они сами отдали мне твои подаренные годы.
— Ты приказал им? Разве ты можешь им приказывать?
— Нет. Но еще там, в мире, я много испытал от них, много бился с ними и победил. Или почти победил. Они это помнят и даже боятся меня.
— Разве есть человек, который может их победить?
— Не знаю… Наверное, есть. Что же касается меня, то я вовремя умер, и если бы не тот медведь, они одолели бы меня в каком-нибудь другом бою. Своевременная смерть — доброе дело: даже если она приходит к молодому, жизнь не кажется обидно короткой. Вы, живые, это плохо понимаете или совсем не понимаете.
Сердце заколотилось в груди Мэбэта.
— Кто ты? — закричал он.
— Я Хадко, твой сын… Ты вряд ли узнал бы меня сам. Облик мой еще неясен, потому что умер я не так давно. Но, я думаю, когда мы вновь встретимся за пределами земли, ты легко узнаешь меня. А сейчас еще не время. Здравствуй, отец.
Настолько поражен был любимец божий, что не ответил на приветствие сына. Хадко не попрекнул его.
После долгого молчания опомнился Мэбэт и сказал:
— Сын, я убил того медведя, я отомстил за…
Человек Пурги тихо оборвал его:
— Не рассказывай, я знаю. Скажи мне лучше — здоров ли мой сын? Здорова ли моя мать? Жена моя здорова ли?
— Они все живы и здоровы. Они тоскуют по тебе.
— Не надо тосковать. Пусть не тоскуют обо мне, здесь я не терплю никакого зла. Скажи им об этом, когда вернешься.
Горло Мэбэта немело от подступавших слез.
— Скажу… Если смогу дойти. Эти чумы — очень тяжкие. Они — расплата за мою жизнь...
— Не вини себя, — сказал Хадко, голос его был спокоен. — Каждый человек платит за свою жизнь — после смерти или еще там, на земле.
— Ты — заплатил? — спросил Мэбэт.
— Наверное, да. Хотя я не знаю, что будет со мной дальше. Участь моя там, — рука Хадко показала вверх, — еще не решена. Слишком мало времени прошло. Но я вижу подарок бесплотных в том, что они забрали мою жизнь в пору счастья. У меня родился сын, у меня была красивая жена и добрая охота. Любовь моя, родившись злой, очистилась от зла. Я пресек вражду с людьми и установил с ними добрый мир. Разве этого мало человеку? Даже того, последнего медведя я шел добывать, чтобы стать еще счастливее. Пожалуй, это было слишком… Правда, одно смущало мою душу. Не знаю, чьей волей — а, несомненно, это была благая воля — я поборол тот страх, который шел за мной от самой утробы. Это страх перед тобой. Я уже не боялся и не впадал в немоту при виде тебя, но все же знал, что столкнусь с тобой неизбежно. Пусть не сейчас, много позже, когда вырастет мой сын и твой внук, которого ты намеревался сделать своим наследником. Я догадывался об этом…
— Твоя догадка — правда, — горестно сказал Мэбэт.
Хадко продолжал, будто не слышал:
— Однако хвала тем бесплотным, которые послали мне своевременную смерть и тем избавили от брани с родным отцом.
— Ты бы поднял на меня оружие?
— Оспаривать первородство у собственного сына, поднимая оружие на собственного отца, — вряд ли может быть что-то ужаснее подобной участи. Всякий, кто сказал бы, что знает, как разрешить такую участь, — глуп. Разума моего хватило, чтобы не разгадывать эту загадку прежде, чем придет ее час. Время давало мне передышку, и я думал о другом, хотя знал, что ты не забываешь и не прощаешь обиды. Одно лишь скажу тебе: я бы сделал все, чтобы остаться жить, даже если бы ты захотел моей смерти. Но, как видишь, боги решили иначе — и потому незачем нам говорить об этом.