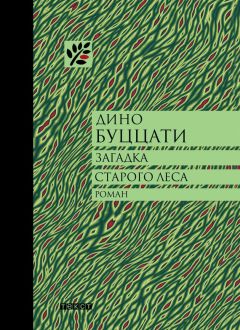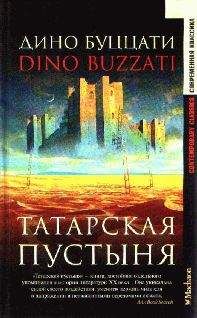— Филин, — ответил Маттео, — а ведь это тебе следует стыдиться, потому что я умираю.
И хотя филин сидел за завесой ночной темноты, стало ясно, что от этих слов он остолбенел, задышав беспокойно и прерывисто.
— Слишком уж длинный у тебя язык! — укорила его с соседней ветки какая-то птица с высоким ясным голосом. — Ну и бестактность, ну и конфуз вышел, ты так оплошал, что впору сквозь землю провалиться…
— Прости, Маттео, — смутился филин, — прости, я и помыслить не мог, удержу не знаю, когда начинаю сыпать колкостями, так что не принимай мои язвительные насмешки всерьез… Честное слово, я шутил.
— Брось оправдываться, филин, теперь это все не важно, — сказал Маттео. Он парил уже совсем высоко, и Бенвенуто не мог держаться с ним рядом. Мальчик чувствовал, что ноги у него подгибаются, ведь он шел на лыжах от самого пансиона и ни разу не остановился перевести дух.
Наконец они добрались до Рога Старика.
— А, вот она, злополучная пещера, моя погибель, — прошептал Маттео, стелясь по склону. И добавил: — Ну, Бенвенуто, прощай. Дальше на лыжах не пройти.
— Но я пройду, — заупрямился мальчик. И, скинув лыжи, стал карабкаться по скалам, посеребренным луной, нащупывая под снегом камни, за которые можно было зацепиться.
— Да ты в своем уме? — опешил ветер. — Поскользнешься, и пиши пропало. Метром выше или ниже, разница невелика, нам все равно придется расстаться.
Но Бенвенуто не сдавался. Он полз по обледенелому склону, хватаясь за выступы, которых там, надо признать, было немало, — и вот уже макушки деревьев качались где-то внизу. Бенвенуто проворно взобрался по отвесной скале и вылез на широкий гладкий уступ. Над головой у него было только небо.
Он смотрел на Старый Лес, вокруг которого расплывались сказочно-синие тени, на меркнущий серп месяца и узкую золотистую полосу, вспыхнувшую на востоке. Все окутывал покой. В целом мире — так, по крайней мере, казалось, — остались лишь они вдвоем, Бенвенуто, который стоял, завороженный, на вершине горы, и Маттео, который вот-вот должен был умереть.
Маттео поднялся над Рогом Старика и унесся в небо, навсегда. Бенвенуто больше не чувствовал его дуновения, но до него пока доносился голос ветра.
— Прощай, Бенвенуто, прощай! — еле слышно шелестел Маттео. — Не поминай лихом. Скажу тебе еще вот что: сегодня ночью умер твой дядя Себастьяно, утром его найдут в горах, занесенного снегом, и станут ломать голову, не понимая, что случилось. Но учти, он умер достойно, смертью отважного, благородного человека.
Шум ветра растворился в вышине. Маттео, без сомнений, продолжал что-то шептать мальчику — наверное, то были слова теплые и проникновенные. Однако он был уже слишком далеко, и его прощанья не долетали до земли.
Бенвенуто хотел крикнуть ему что-нибудь в ответ, но не смог вымолвить ни слова, в горле стоял ком. И тогда, глядя на восходящее солнце, он начал размахивать шапкой. А потом опустилась тишина.
Никто никогда не видел, чтобы Проколо улыбался по-настоящему. (Здесь и далее прим. авт.)
После этого случая Аюти, даже если он ехал один, был вынужден каждый раз останавливать машину на том подъеме и оставшиеся два с половиной километра шагать пешком.
Иными ночами, когда стоит тишь и на небе ярко светит луна, в лесу случаются праздники. Их точную дату установить невозможно, и нет явных примет, которые указывали бы на их приближение. О празднике можно догадаться по какой-то особенной благости, разлитой в воздухе. Впрочем, люди в большинстве своем никогда этого не замечают. Однако есть и такие, кто вмиг чует. Подобным вещам нельзя научиться. Тут все дело в тонкости восприятия: некоторым она дана от природы, другие же ею не обладают вовсе и поэтому идут себе как ни в чем не бывало, в блаженном неведении, по ночному лесу и даже не подозревают, чтó там происходит, а лес между тем полон ликования.
Было около пяти часов пополудни.
С этим явлением, пока еще мало изученным, можно столкнуться в любом лесу, поле, овраге, на лугу или болоте: звери, птицы и растения вмиг оживляются, когда приходят дети, в них пробуждается небывалое красноречие, и завязываются самые настоящие беседы. Но стоит появиться хоть одному взрослому, как чары рассеиваются.
Гусеницы, даже испытывая сильную ярость или боль, не могут, конечно, издавать по-настоящему громких звуков, и их крики — ничто по сравнению с пением птиц, к примеру. Человеческое ухо не в состоянии уловить их.
Маттео среди них не было.