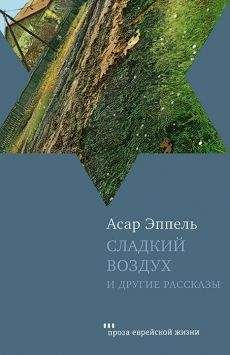Неотвожа
Досчитав, объявляешь: «Ты встаешь к дощатой стене предместья. Возлагаешь на нее руки и утыкаешь в них стриженую голову. „Считаю, говоришь, — до сорока!“ Это ты водишь в пряталки. Там не говорили „прятки“».
Досчитав, объявляешь: «Пора не пора — иду со двора!» — и сразу поворачиваешься — позади не дыша может стоять кто-нибудь хитрый и, мигом коснувшись стены, выручиться: палочка-ручалочка, выручи меня. Там не говорили «выручалочка».
За твоей спиной никого нет, и ты идешь со двора. Как это делается, известно. Ходишь — ищешь. Но если найти никого не получается — или надоело искать, или, пока искал, всем удалось выручиться, и тебе, выходит, водить снова — ты вставать, как расстреливаемый, к стене отказываешься.
Тут все кричат: «Неотвожа, красна рожа, на татарина похожа!»
Ты — неотвожа. Давай отваживай. Хотя они здорово попрятались. За столько лет — ни одного. Кто ж их найдет, если не ты? Сами не появятся водить не захотят.
За столбом — никого. За углом — тоже. За отворенной дверью никто затаив дыхание не притаился. На дерево не залезли. В канаве не лежат. За бочкой нету. За сараями тоже. В лебеде пусто.
Погляди вдоль улицы. У колонки ее пересекает булыжный тракт, на обочинах которого к июлю образуется по щиколотку пыли. За Хинино жилье мотнулась юбка автобуса. А если в нем уехали — что тогда? Тридцать седьмой ходит редко: иногда — раз в сутки, иногда — раз в год, иногда — никогда. И стоять тебе, значит, всю жизнь у стены, горячей и крашенной в один слой жидкой красноватой краской, и водить.
Ищи же их, неотвожа!
Неотвожа, красна рожа, ищи их!
А не найдешь — никогда ты их не найдешь! — вспомни хоть, припомни — они же оттуда, куда подевались, ни за что теперь не возникнут.
Хотя многое возникает. Электрический свет, например. Годами не было, и вдруг — раз! — зажегся. Надолго ли — неизвестно! Вот — раз! — и появился автобус № 37[2]. До войны ходил, потом отменили. И никто на его появление не надеялся. А он — сперва даже без приколоченных остановок — взял и прошел со всеми, ему одному известными остановками. И стало непонятно — ходит он или нет? Ждать или не ждать?
Пройти он мог, как сказано, раз в день или раз в год, но почему-то всегда битком. Неизвестно же — есть он или нет; идти от трамвайных улиц каких-нибудь полчаса, и никому в голову не придет, сойдя с трамвая, ждать автобус, который неизвестно ходит ли, хотя остановки приколочены. И народ, ясное дело, добирается пешком, ибо, даже если автобус есть, ждать его все равно дольше, чем эти самые полчаса. Минимум — часа полтора.
А он вдруг вкатывается на булыжный тракт, уже битком, словно набился там, откуда едет. Из скособоченных дверей задом или передом вываливаются на остановках местные жители, знакомые всё люди, никогда автобуса из-за неопределенности его хождения не ждущие, но приезжающие почему-то именно на нем.
А он стоит, пуская пар и гарь из-под живота, осевши на булыжник или снег, опустив в этот снег мятые голубые юбки, которые мотнулись за угол Хининого углового дома.
Откуда он шел и куда — сейчас не вспомнить, хотя, пока рассказ пишется, постараюсь это выяснить и подать в примечании; но поворот его с асфальта Ярославского шоссе на булыжный тракт возле одинокой и прекрасной сосны на взгорке — бесспорен. Тут он въезжал в жизнь другую и сам преображался тоже. Надутые шины обмякали и принимались шлепать, а упомянутый взгорок, умеряя разгон въезда, заставлял оседать на брюхо, натужно вползать по булыжнику и пускать черноту из организма внутреннего сгорания.
Был он голубой, с цифрой на лбу, с радиатором в виде собачьего носа (о, поразившие всех безрадиаторные автобусы будущего!). В зимние сумерки впереди напрасно желтели фары — дорога и так белела, а встречные машины тут не попадались.
Днем лобастый этот с продолговатой лысиной шарабан давал разглядеть сквозь небольшие стекла бесчисленных пассажиров, а по вечерам никого видать не было, зато внутри как бы краснелась лампадка. Сидячих мест было не счесть, а стоячих и висячих уже не определишь, да и тогда было затруднительно. Попробуй сосчитай, если висишь, а сума твоя волочится по земле. Сорваться не страшно — не упадешь. Встанешь просто на ноги и поплетешься, как рядом с телегой, но хватательное место потеряешь: не дадут больше прицепиться остальные свисающие…
Оба этих пассажира по незнанию сели в автобус № 37 еще на асфальтовой улице. Лицом обое были равнодушны, через руку каждого свисал перекинутый макинтош, и одеты тот и другой казались не без тщательности, однако чтобы не бросаться в глаза тем, кто недолюбливал тогда никакого щегольства. Ботинки, верней полботинки их, были рантовые с дырочками. Брюки бостоновые, пиджаки, конечно, однобортные. На одном коричневел самовяз, у другого — воротник рубашки, выложенный на пиджак, в разведенном уголке показывал нижнее белье с бязевой на ниточке пуговкой.
Один был стрижен под польку, другой — под Кольку.
Того, кто при самовязе и под польку, звали Минин и Пожарский, остального — Пупок.
Севши в наш автобус, оба, конечно, лопухнулись, но сперва до этого не доперли.
Во-первых, для дела он был плохо полон, то есть народу, конечно, было жуть, но все ж таки не очень. Во-вторых, хотелось занять возле кого-нибудь пустое место для сидячей работы, а места, ясное дело, не было. В третьих, когда кондукторша спросила, докуда отрывать билеты, Минин и Пожарский сказал — до Ростокина, хорошо зная, что автобус не туда. Пупок, который не обнаруживал никакого отношения к Минину и Пожарскому, заявил: а мне до этой, как ее, забыл, остановки… Столб там еще… а на нем ворона…
— Это до почты! — сказала не повернувшись, но отчетливо, толстая женщина с переднего места.
— Вот! — согласился Пупок. — Надо же из головы выскочило!
— А вы или выходите, или докудова-нибудь берите! — базарила с Мининым и Пожарским, зачем-то втискиваясь в щель между своим местом и спинкой сиденья впереди, кондукторша.
— Я тогда сойду щас! — сказал человек в самовязе. — Но вот прошу за билет мой. Оплочиваю за остановку. Передайте, будьте так любезны! Бес здачи! — Он вежливо достал монетку и вознамерился двинуться к передней двери, но тут всех накренило, так что Минин и Пожарский налег на какого-то мужичонку, свалив того на сидевшую подсказчицу насчет почты. Поваленный устроил голову на ее кофте, а Минин и Пожарский неслышно ощупал его брюки. Мужичонка, пока автобус, скребя по снегу, куда-то сворачивал, лежал щекой на грудях женщины, а та разглядывала побритое его лицо и гостя не сгоняла, хотя на коленях держала сжатые кулаки. Он же, слабо дыша вином, глядел ей в глаза и, когда пришло время что-то сказать, сказал: «Ты, Дора, извиняй! Видишь, как подрессорило! За поворотом обратно отфугасит!»
Пассажиры, конечно, тоже полегли кто как, а находившийся возле кондукторшина места Пупок на это место плюхнулся, но, едва автобус выровняло, встал на ноги и несколько отступил, на свободное это сиденье не соблазняясь. Между прочим, на него не претендовал никто, хотя кондукторша обреталась в щели, куда почему-то целиком забилась.
— Да позвольте же к выходу, пассажиры! Я же не туда сел! — разорялся впереди тоже уже вертикальный Минин и Пожарский, а Пупок, воскликнув: «Ну прут!», нажал на попрямевших после поворота соседей, и те даванули вперед, где придурялся Минин и Пожарский. Тот, хотя пробраться к выходу мог, намеренно вертелся, топырил локти и то совал куда-то беспокойные ладони, то вытаскивал, беря макинтош с руки на руку и напирая на и так стиснутых Пупком людей. Уж он и расклинивал их, и сгребал руками, затыкая самому себе дорогу, и поворачивал в заднюю дверь, крича, что не на то сел, что надо же вытти! но, стоило ему двинуть назад, Пупок сразу давил навстречу, и происходило, сами знаете что происходит в таких случаях в автобусе.
Минин и Пожарский с Пупком были карманники и устраивали эти неудобства, чтобы ловчей накрасть и смыться.
А в ползущем в горку автобусе бывает по причине декабрьских сумерек мглисто и темно, и только продолговатая лампочка тлеет в потолочной ямке, грозясь вот-вот помрачить кровавый зигзаг спирали, и, если б не обманный ее свет, по обочинам белелись бы сугробы, а за сугробами на неведомых дорожках чернели бы ледяные раскаты, которые день ото дня всё длинней, потому что прохожие — и дети тоже — в ранней и сырой, как влажный черный хлеб, мгле, нет-нет и проедутся для удовольствия ног по темному, как вода, ледяному протиру. Идут-идут, проедутся, идут-идут, проедутся, но из автобуса же ничего не видать — на стеклах непроскребаемый иней, который, толстея книзу, не белеет, а в красном коптилочном свете темнеет, а протаянные монетками для узнавания остановок дырки суть дыры во тьму — в камеру-обскуру декабря, но можно все же представить, что впереди у автобуса тлеют желтые фары, позади не горит ничего, юбки ему замела пурга, обмякшие шины или толкут снег в картофельную муку, или прессуют его в колеях сухими вафлями. Столбовые фонари еще не зажжены, а может, в них расколочены лампочки, так что снег не сверкает, а — темный — белеется, покуда автобус протаптывает дорогу и от желтых его волчьих глаз шарахаются в сугроб встречные дровни, из которых торчат, конечно, две пары промерзлых лаптей…