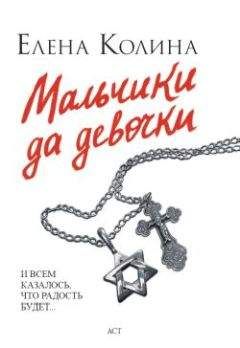Здание школы было частично разрушено, в левое крыло вход был закрыт, опасались, что дети провалятся в щели, выпадут из окон с выбитыми рамами, попадут под падающую балку... кроме того, в школе не хватало учебников, не хватало бумаги, ручек, карандашей. Дине казалось, что в таких сложных условиях все учителя должны встать единым фронтом, чтобы хоть как-то учить детей, чтобы дети не страдали от разрухи, но нет, никакого единого фронта, ничего такого...
В школе кипели шекспировские страсти. Учителя разделились на две партии -старые учителя и новые, члены партии, большевики. Но разделились они на старых и новых не столько по идеологическому признаку, внешне старые учителя были лояльны к власти, а по своему отношению к переменам, к новой, советской, школе, – новые произносили это с гордостью, старые пренебрежительно.
Новые учителя хотели все прежнее решительно разрушить, старые хотели все прежнее решительно сохранить и хотя бы втайне, украдкой, учить «как было». У старых все вызывало бешенство, все раздражало – совместное обучение мальчиков и девочек, отмена Закона Божьего, бесконечные путаные указания... Указания были одинаковы – все отменить. Отменить отметки, наказания, домашние задания, отменить экзамены, не делить учеников на классы, отказаться от предметной системы преподавания, водить школьников, как солдат, на работу в ремесленные мастерские вместо учебы... Но, о Господи, как же тогда прикажете учить?! Посадить малышей рядом с дылдами, как в церковно-приходской школе, и всем вместе клеить коробочки, раз уж теперь считают, что в обучении главное – труд, а не науки?.. Породить поколение неучей? Дискредитировать учительский труд?
Старая школа с ее муштрой и наказаниями была нехороша, новая школа без отметок, классов и предметов никуда не годилась, так что это была борьба плохого с еще более ужасным. Партии новых и старых были непримиримы, а если учесть, что все, и старые, и новые, были женщины, примешивающие к идейным разногласиям личные счеты, обиды, самолюбие, зависть, то понятно, что педагогические споры переходили на кофточки, отсутствие мужа, сексуальную невостребованность, и высказывания типа «Вы бы лучше на себя посмотрели...», «А вы сами...» звучали в стенах бывшей гимназии все чаще и чаще. Кто-то кого-то ненавидел, не выносил, терпеть не мог... В кулуарах одна учительница обозвала другую климактеричкой, в общем, еще немного, и они начали бы вцепляться друг другу в волосы и подкладывать кнопки. Дина со своей непосредственностью, нечувствительностью к деталям этих нюансов женских отношений просто не замечала.
Бедная, абсолютно идеологически невинная Дина Мироновна Левинсон попала в осиное гнездо. В душе она ничего не имела против старой школьной системы, но Дина, конечно, была «новая» – а кем же еще могла быть студентка советского вуза?
Но как-то так вышло, что Дина Мироновна Левинсон оказалась единственным человеком вне партий. Она безукоризненно следовала всем инструкциям, безропотно таскала учеников на «общественно-полезные работы». Но Дина не только организовывала и боролась. Она уходила из школы последней, таскала стулья и мыла полы, колобком каталась по школе, выслушивала детей и родителей, и вскоре даже самые подозрительные убедились, что учитель Левинсон не таит под этим административную, карьерную корысть. К тому же Дина так вдумчиво училась у старых учителей, так рьяно перенимала опыт, что все они были от нее в восторге – какая толковая девушка, прирожденный учитель, ее бы в старую школу... В общем, не девушка, а чистейшей прелести чистейший образец – полногрудый, кареглазый, с врожденным педагогическим даром.
Заведующему школой, двадцатитрехлетнему Петру Васильевичу Федорову по прозвищу Зададимся Вопросом Дина была необходима. Зададимся Вопросом был еще совсем мальчик, воевал в Красной армии, был контужен, в школьных делах решительно не разбирался и, как нерадивый ученик, боялся учительниц – всех, кроме Дины.
– Зададимся вопросом: легко ли мне рулить кораблем баб? – говорил он.
Дина Мироновна Левинсон не была «баба», она была рабочая лошадка, трудяга, и так успокаивающе звучал ее голос с низкими модуляциями на педагогических советах, где прежде доходило чуть ли не до визга. Дина умела всех не то чтобы примирить – это было невозможно, – но как-то снизить пафос, притушить накал страстей. Дина Мироновна Левинсон была и вашим и нашим, – в разгар спора спокойным рассудительным баском гудела: «Отметки нельзя – тогда можно я буду ставить устно? Программа не нужна – можно я для себя составлю?..» Ее искреннее желание перенять опыт, спросить и подождать, пока ответят, заставляло вспомнить, что главное в школе – дети, а не борьба амбиций, заставляло сдерживаться, как взрослые сдерживаются скандалить при маленьких.
Дина фонтанировала добродушными идеями, организовала продленный день для ребят, – это был первый опыт продленного дня в городе, и теперь школа была на хорошем счету в Отделе просвещения. Ни новые, ни старые учителя, никто, кроме Дины Мироновны и Петра Васильевича, не желал оставаться на продленный день, так что Дина то в очередь с ним, то вместе с ним сидела с ребятами до ночи. Случалось, они с Петром Васильевичем уводили неразобранных детей к себе ночевать – половину ему, половину ей. Мирон Давидович всегда старался ребятишкам хоть что-нибудь дать, хотя бы пощелкать затвором фотоаппарата, а Фаина поджимала губы, грустно смотрела не на них, а на свою Дину, бормотала «всех не пережалеешь», но ночевать пускала и старалась при учениках к Дине не вязаться.
Динины домашние не знали, не могли предположить, что их Динка-ревунья пользуется таким уважением, заняла среди учителей особое положение, что к ней ходят жаловаться, изливать душу, искать справедливости и одобрения. Но ведь и в школе никто, ни заведующий, ни учителя, ни ученики, не знали, что Дина Мироновна Левинсон ходит дома без трусов, рыдает, не утирая слез, и получает по голому заду полотенцем.
Дина была совершенно счастлива – у них будет театр! К середине дня она уже успела похвастаться заведующему школой, успела обрадовать ребят и даже успела быстренько, на ходу немного порепетировать «Вишневый сад». И один ее вечный двоечник рассказал ей отрывок из «Медного всадника», – бывают же такие насквозь удачные дни.
Географичка принадлежала к партии старых, прозвище Прищепка получила еще в бытность школы женской гимназией, – она преподавала географию и была классной дамой, кажется, была из дворян, ненавидела новых учителей, заведующего, Дину с ее продленным днем и некоторых детей подчеркнуто пролетарского происхождения. Прищепка была умная, едкая, злая, бродила по школе в темном платье с брошью у ворота, как тень самой себя, и учителя ее побаивались и одновременно относились к ней как к немножко чучелу.
В качестве почетного, выжившего из ума чучела Прищепка почти не удостаивала вступать в беседу, зато регулярно переписывалась с заведующим и учителями, предпочитая высказывать свои соображения в письменной форме. Письма передавала Дина, – а кто же еще мог безотказно разносить по школе Прищепкины эпистолы?.. Дина же была и единственная, кто честно принимал Прищепкины наскоки не за старческое ворчание, а за желание развернуть дискуссию.
Сегодня Прищепке объявили строгий выговор. На педсовете обсуждалось ЧП. Заведующий был расстроен и как-то даже испуган: оказывается, Прищепка привела в школу свою знакомую, и ее по Прищепкиной рекомендации взяли учительницей музыки.
– Зададимся вопросом: как ее фамилия? – спросил заведующий. – Так вот, фамилия у нее Гагарина.
– И что же? – вскинулась Прищепка.
– Ну и что? – не поняла Дина.
– А то, что она дворянка, чуть ли не княжна, – объяснил он. – Гагарину я, само собой, уволил, но зададимся вопросом: что скажет Отдел просвещения, если узнает, что у нас в школе учила детей бывшая дворянка? А если она еще и бывшая княжна? А, Дина Мироновна? Что это, по-вашему?
– Контрреволюция? – с ужасом в голосе тихо ответила Дина. И Зададимся Вопросом кивнул:
– Вот именно.
За знакомую дворянку, чуть ли не княжну, Прищепке и объявили строгий выговор.
Прищепка напала на Дину в коридоре и сунула ей очередное письмо.
– Вы случайно написали по-старому, – сказала Дина, машинально взглянув на страницу. В бисерных строчках мелькали «ер» на конце слов, «и десятеричное», «фита».
Прищепка не удостоила ее ответом. В сущности, она вела себя как несчастный капризный ребенок, живущий в своей, выдуманной реальности, – требовала, чтобы на уроках ученики отвечали материал, поднимали руки, подавали ей листочки, которые называла дневниками и в которые упорно ставила отметки, назначала какие-то свои тайные экзамены. А иногда доходила до совсем уж нелепости – невзначай, как будто забывшись, использовала старую орфографию вместо новой.
– Вы разрушаете прежние традиции... – сухо отозвалась Прищепка.