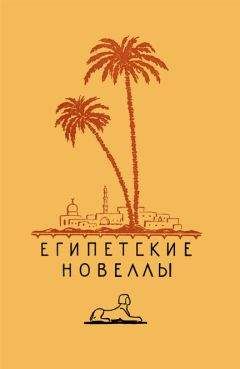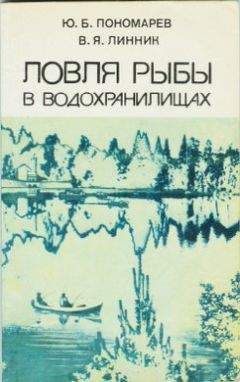— Господи, Виктор Ильич! То же — Румыния… У них что ни месяц — новое правительство.
— И у нас так будет, — меланхолично сказал Стовба. — Будет, если дать волю Бешеному.
— Однако не понимаю, — не сдавался полковник, — компромат компроматом, а зачем спецподразделения?
— Чтобы наполнить любую папочку, одних подозрений мало. У кого-то надо взять показания. А у кого-то выжать. А еще кого-то заткнуть, если его показания не будут вязаться с концепцией папочки. Неужели не ясно?
Они долго молчали, рассеянно глядя перед собой. Полковник развинчивал и свинчивал ручку сувенирного кинжала — память о намибийской полицейской делегации, — а Стовба грыз трубку. Наконец командир дивизиона поднял голову и медленно сказал:
— Вероятно, Виктор Ильич, ты прав во многих своих выводах. Во многих… Понимаю, у тебя своя игра. Но под твою дудку я плясать не намерен. И под дудку генерала, замечу, тоже! Я буду и дальше работать, исходя из статуса службы гражданской безопасности. Политический террор — не наше дело.
— Да? — живо откликнулся Стовба. — А чем сегодня занимался Кухарчук? Если точно квалифицировать его действия на сходке республиканцев, то он был организатором политической провокации. Подговорил какого-то дурака, тот затеял драку, а Кухарчук — тут как тут… Вспомните также, как вы сегодня на разводе накачивали патрульных! Ни слова о политике, да?
Полковник побагровел и повертел головой, словно ворот форменной рубашки стал ему тесен. А Стовба безжалостно рубил:
— Помните, Денис Вячеславович, какая кампания против КГБ поднялась в свое время? Вы тоже хотите оказаться под микроскопом какого-нибудь общественного расследователя лет через пять?
— Плевал я в ваш микроскоп! — вдруг взвился полковник.
— И плевал я на твои выкладки, Виктор Ильич! Ни хрена ты не соображаешь в аппаратных играх… Димы он испугался! Генерал — просто садист и дурак. За ним кто-то стоит, убежден. Кто? Не знаешь… Вот узнаешь — приходи, поговорим дальше. А пока я пальцем не пошевелю, чтобы помешать генералу. У меня одна жизнь, и я уже падал. Это очень больно, уверяю… Кроме того, я не знаю, кто стоит за тобой, Виктор Ильич! А если такой же Дима, только не рыжий, а черный?
— За мной стоят те, кто не хочет, чтобы Россия с помощью СГБ превращалась в полицейское государство.
— Это все слова, — устало сказал полковник. — Настоятельно прошу в самый короткий срок выполнить указание генерала о подборе людей. Ясно? Свободен, капитан. И еще…
Если узнаю, что ты шуруешь за моей спиной, — пойдешь под арест!
В это же самое время потные и грязные патрульные из наряда унтер-офицера Кухарчука медленно ехали по Уланскому переулку.
— Все руки ободрал, — показывал напарникам огромные красные клешни Жамкин. — Я ведь до службы строительное училище закончил. Каменщиком был… Вот так же день пошваркаешь кирпичи или блоки, хоть и в верхонках… Руки саднит.
— Что такое верхонки? — повернулся на переднем сиденье Кухарчук, такой же потный и грязный, как и Жамкин с Чекалиным.
— Рукавицы, — объяснил Жамкин. — А то я уж и забыл, как он дерет — бетон. Как терка.
— Ничего! — шлепнул Жамкина по плечу Кухарчук. — Руки заживут. Ты можешь собой гордиться!
— А я могу гордиться? — засмеялся водитель Дойников.
— Если бы не моя реакция, нас «татра» просто расплющила бы! Ей-Богу, в лепешку! Бр-р-р…
— Все молодцы, — подвел итоги Кухарчук. — Ты, Дойников, как Бог вертел машину, а Жамкин как Бог убирал блоки. А Чекалин стрелял как Бог. Правда, чересчур торопливо. Мог бы оставить следствие без подследственных. Шутка!
— Что с ним будет? — спросил Чекалин. — Ну, с шофером, который остался?
— Разберутся, — пожал плечами Кухарчук. — Лет десять за теракт воткнут. А жрать-то хочется, братцы! Ведь уже четвертый час. И умыться не мешало бы. С меня просто течет.
— Я на эти тюбики глядеть не могу, — буркнул Жамкин, вынимая из холодильника в спинке кресла тубы с обедом. — Опять куриный бульончик, котлеты и гречка. Как в детском садике! Эту суку, что рацион составляет, заставить бы каждую смену давиться холодными котлетами!
— Может, старшой, натурального чего перехватим? — спросил Чекалин. — Вроде заслужили сегодня…
Кухарчук задумался. Дойников, заметив колебания унтера, поддержал Чекалина:
— А что, старшой, нормальная мысль! На Сухаревке у меня есть знакомый копер, армяшка. Шашлыки — пальчики оближешь!
— Нехорошо, Дойников, — сухо сказал Кухарчук. — Армяшка… А меня как назовешь? Хохляшка? Вот в Калифорнии… Попробовал бы ты вякнуть там что-нибудь насчет армяшки. Или негра…
— Да ладно, — отмахнулся Дойников. — У нас не Калифорния. Ты все эти повизгивания про равноправие наций газетам оставь. Лучше ответь, старшой, на вопрос: почему это в патрулях остались одни русские да хохлы? Когда я служить начинал, и татары были, и те же армяне, и даже грека одного знал. А теперь…
— Ты, Дойников, не возрожденец? — задумчиво спросил Кухарчук.
— Я многоженец, — отрезал Дойников. — Есть и такая партия.
Кто знает, чем бы окончился этот разговор на темы межнациональных отношений и партийной принадлежности… К счастью, Дойников уже тормозил у сквера на Сухаревской площади. За сквером, во дворе дома, торчал веселый вагончик на скородельном кирпичном постаменте, а по вагончику вились наискосок красные буквы: «Шашлыки Акопяна. Кто не едал — Москвы не видал!» Черноусый малый, на бегу размахивая белым колпаком, резво мчался к машине:
— Какая честь, какая реклама! Прошу покушать, господа, окажите сладкую милость!
— Идите, идите, — сказал Дойников напарникам. — Он действительно без ума от радости. Если у него патрули пообедают, то рэки не скоро заглянут. Эй, Ашот, я выйти не могу — служба, сам видишь. Скажи мальчику, пусть притащит четыре палочки, лаваш и мокрое полотенце.
— Момент! — сказал Ашот и снова взмахнул колпаком.
— Прошу, дорогие господа…
— Уговорил, — сказал Кухарчук. — А ты, Дойников, включи уоки-токи на всякий случай.
И пошли патрульные за вагончик, где с наслаждением умылись и сели за хлипким белым столиком в тени старых рябин-черноплодок, неподалеку от вентиляторных шахт метростанции. Справа возносились крутые шеломы церкви Троицы-в-Листах и светили на солнце самоварным золотом. А через дорогу, в центре Сухаревской площади, задумчиво стоял бронзовый Петр Аркадьевич Столыпин, уронив тяжелые руки на сложенную землемерную сажень. Кухарчук помнил надпись на металлической ленте, врубленной в гранитный цоколь: «Нетерпеливому подвижнику — терпеливая Россия». И еще Кухарчук, в отличие от своих напарников, хорошо понимал многозначительность того факта, что памятник вдохновителю земельной реформы поставили не где-нибудь, а в центре бывшей Колхозной площади…
Жара, мягкая ватная жара обнимала Москву. Колесом кружилось железное Садовое кольцо. Как хорошо было сидеть в тени, за белым столиком, расслабленно откинувшись на упругий, чуть шевелящийся под ветром рябиновый ствол!
Правда, долго ловить кайф не пришлось — набежал шустрый мальчик в галошах на босу ногу, натащил в картонных тарелочках горы шкворчащих шашлыков, политых жгучим красным соусом и посыпанных резаной зеленью. Лаваши были еще теплыми и источали запах свежего хлеба — вечный добрый запах. Потом мальчик приволок огромный, запотевший в холодильнике стеклянный кувшин с гранатовым морсом! Да, что ни говори, а оставались еще в Москве уютные места…
Согнули патрули бычьи шеи над гофрированными тарелочками и дружно вцепились молодыми зубами в горячее нежное мясо по триста рублей за порцию. Истово ели, не спеша, не обращая внимания на сладковатую вонь отравленного ветра, на грохот и мельтешение Садового кольца. Поработали мужики… Заслужили.
В одиннадцатом нумере Гриша Шестов обнаружил кроме Рыбникова еще две знакомые личности.
Деликатно глодал куриную ножку наемный шакал пера, скандально знаменитый фельетонист Панин, отзывавшийся на кличку Паня, а рядом с ним кромсал мясо огромными кусками и заглатывал его, словно не жуя, некий Иванцов, «свободный редактор свободной газеты», как он гордо представлялся, в прошлом — крайний правый нападающий российской сборной по футболу.
Шестов поприветствовал компанию, после чего ему была налита объемистая рюмка «смирновки» и пододвинуто блюдо с закусками.
— Будем есть и слушать, — сказал Рыбников.
Он присоединил к крошечному диктофону, который принес Шестов, распределительную панельку с наушниками и переписывающим устройством. Гриша принялся выпивать и закусывать, усмехаясь про себя, — второй раз обедает на шармачка. За столом царила тишина, только звякала изредка посуда да булькала «смирновская». Гриша думал: что могло собрать этих типов за один стол?