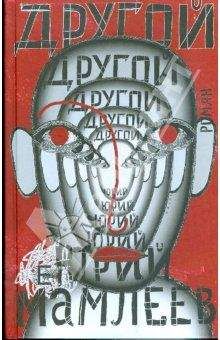— Да все может быть, — возопил он. — Может быть, и сон превратится в явь, а явь в сон… Все может быть.
— Ладно, — умиротворенно заключил Вадим. — Не будем пророками. Вы позвоните Лере, если встреча станет возможной. Вот и все. Давайте о другом. Просто посидим. Ведь мы не с Луны свалились.
— Вот Вадимушка нашел нужные слова, — нежно, но чуть-чуть жутковато сказала Алёна, обращаясь к Вадиму, и тронула его за руку. — Поехали.
Поехали — значит выпили, и пошли речи о другом. Тут как тут вывалился с чердака Родион, сразу почуявший, что Аким Иваныча уже нет.
— И мне налейте, — сказал он, подходя к столу.
Но лицо его было мертвенным, правда уже присутствующим.
Ему с особой радостью налили, от вина, мол, не спрячешься. Тихо и задумчиво стало в комнате.
«Не то ангел пролетел, не то Аким Иваныч», — подумала Лера.
Потом беседа возобновилась, и Родион оказался крикливей всех.
Разошлись поздно, и Родионушка, охая, усадил гостей в автобус, сказал «с Богом» и помахал рукой.
И среди этого крика Тарас успел шепнуть Лере, чуть не облизав ее ухо, что у него есть еще запасной ход к Аким Иванычу.
Гон (так звали в некоторых людоедско-криминальных кругах этого человека) ворочался на постели, глядя в тусклое окошечко рядом.
Где-то исступленно-тупо брехала собака, как будто она видела своего вечного врага.
Гон плакал. Но это не мешало ему думать: «Опять они пришли. Опять, опять… Днем думаешь, что найдут и зарежут, и ночью жалости ко мне нет… Другие приходят, неотвязно, неотвязно… Разве так люди спят, как я? Пугают и пугают». Он привстал на кровати, спустил ноги на пол. «Хорошо, я помогал им их добывать и резать. Ну и что? — мелькали какие-то помойные мысли, — ну и что? Ведь я сбежал… А потом не я главный, главные другие, я так и сказал им: не хочу ни о чем знать. Да от ума разве убежишь. Всегда он тут как тут. Но я ведь только, как бы сказать, служкой был, водителем — моя хата с краю, ее вообще нету нигде… За что?»
Он даже взвизгнул, как большая совестливая крыса. Гону (а фамилия его была Гаин) во сне приходили Почки. Огромные, шевелящиеся, черные и с большими круглыми глазами, источающими тусклый, какой-то подводный свет. Почки что-то шептали, безобразно-невнятное, лишенное разума. Обычно одна какая-нибудь почка выдвигалась вперед, заслоняя других, и прямо наплывала на сознание Гона, словно поглощая его «я». Таким образом свет и пространство сновидения исчезали, и оставалась одна паучье-поглощающая черная почка. Тогда Гон начинал дико кричать, словно разрывая себя на куски. И тогда просыпался, обнаруживая обычно свет, обыденный и устойчивый, за окном.
Загвоздка состояла в том, что Гон долгое время (на самых низких, побегушных ролях) участвовал в организации, которая была частью гигантской международной мафии, поставляющей почки для богатеньких. Почки брались от деток, да и молодыми людьми не брезговали.
Гон, выступавший порой как водитель якобы скорой помощи, запомнил одного из них, некоего Володю. Гон тогда почему-то подумал, что, хотя парень как будто бы без сознания, он понял, куда его везут. Так Гону во всяком случае показалось, и он собрал всю волю, чтобы не всплакнуть.
Вообще, платили, естественно, хорошо. Но Главный (он для него, для Гона был главный, на самом деле был всего лишь винтиком в системе), так вот, этот Главный один раз предупредил Гона:
— Гон, я вижу тревогу в твоих глазах. На пустом месте. За тебя ручались. Но если я еще раз увижу это, придется с тобой поговорить. Мы тревоги не любим.
Тревога в глазах Гона появлялась вовсе не из-за глаз деток, а из страха за себя. Мол, докопаются, раскроют. А ведь Гону не раз говорили, что сама мысль о разоблачении абсурдна, настолько все крепко и надежно схвачено.
И чего ему было бояться? Он был одинок, свою семью не любил и давно бросил. Но что-то сдвинулось в его уме. Повлияло появление почек. Сначала он не обратил внимания, потом вдруг во сне стал просить прощения — у почек, конечно. Просыпался, недоумевал, но потом скис.
Если бы он рассказал про это Главному и тем, кто с ним рядом, они бы захохотали, а потом убили. За некорректность, ведущую к неблагонадежности. Но у него хватило ума прикусить язык. Но главное, потом появилась трусость. Вопреки абсурду, лезли навязчивые мысли, что «организацию» вот-вот раскроют. И еще: боялся обнаружить свою трусость перед «ребятами», перед Главным — заметят, ему — конец. Главный таких проявлений не потерпит. И вот тогда у Гона возникла мысль — сбежать.
«Зелененьких» накопилось достаточно, да и был он человек скромный. Любил держаться в тени, и часто тень свою принимал за самого себя.
С другой стороны, понимал — сбежишь, под землей найдут. И похоронят садистски, не то, что почечных деток, там было просто и без шума. Но страх давил изнутри, немножко ненормальный страх, скажем. А кто сейчас в этом мире нормален?
Толчком было то, что Главный вдруг заметил, что у Гона дрожат руки, когда в деле. Главный ничего не сказал, но бросил непонятный взгляд. Ведь действительно, ребята рядом с ним пели, и ни у кого не тряслись руки. Причин не было.
Гона потом, на следующий день, мучил этот взгляд. И тогда он решил бежать. Так и так — конец один, думал, но сбежишь — шанс есть. Он давно все продумал. И с паспортом тоже, и с другими детальками.
«Я очень невзрачен собой, — бормотал Гон перед зеркалом, — щупленький, незаметный. Искажусь, и меня не будет видно».
Спасением был дед. Дед жил одиноко себе, на Щелковском шоссе, под Москвой, и до того был нелюдим, что его никто не знал. И про то, что они, Гон и Дед, родственники и вообще знакомы тоже практически никто не знал.
Дед любил Гона и отрубил ему ухо. По просьбе Гона, конечно. Для маскировки. Паспорт паспортом, но Гон так исказил себя, что и вправду только Дед мог признать его. Пробовал менять даже выражение глаз. На пугающее. Но сам испугался.
На своей квартире оставил наглую записку. «В моей смерти никого не винить. Жить невмоготу. Пойду утоплюсь».
Но потом сам испугался нелепости своей записки и уничтожил ее.
Просто исчез и все. Без всяких рассуждений. Так лучше и спокойней для милиции, решил он.
И вот сейчас уже двенадцать дней он с Дедом. А почки приходят по-прежнему.
Свесив ноги, Гон смотрел в окно. Уже утро. Где-то за стеной шевелится сам Дед. Халупа у него запущенная, но жить можно. Кто сейчас интересуется, кто у кого живет. Но показываться на глаза особо не стоит. А Дед — верный, любит он Гона, да и сам Дед грешил раньше по линии преступности, конечно иной, легкой. И молчалив, как мертвая рыба, даже не расспрашивает, от каких бандюг прячусь. Понимающий. Так думал Гон, опоминаясь от сновидений… Но про почки он ему рассказал.
— Это бесы к тебе приходят, бесы, — уверенно говорил Дед за чаем. — Ты главное, сынок, не бойся. Ко мне тоже приходили, но потом плюнули и ушли. А я плевков бесиных не боюсь.
В тот вечер Дед был особенно разговорчив, но суров по отношению к себе. Деньги у него под полом были, но чай был без сахара.
Гон, наконец, встал с постели. Глянул порезвее в окно: там вихрь, осень.
Дед хрипло позвал чай пить.
На этот раз за столом кушанья были в изобилии.
— Поживешь у меня до весны, — искривив свой рыбий рот, говорил Дед. — А потом я тебя в Сибирь запущу. В надежное место, тебя там твои друзья никогда не найдут. Да и меня не хватятся.
— Полоумный я стал, дедушка, полоумный, — бормотал Гон. — Даже чаю не хочу. Днем дрожишь от страха, что найдут, ночью эти…
— Тебя мать родная не узнает. И ангел хранитель тоже, — строго поправил Дед. — Живи в разуме.
И Лера при своих встречах с Родионом и Ротовым не подозревала, конечно, что ровно через три дома от места их встреч, от домика Родиона, живет участник гибели сына ее знакомых, друзей в конце концов.
Не подозревал и Ротов, но такого рода подозрения были вне его сферы.
Одинцов позвонил матери. Анна Петровна отговорив, положила трубку и рассеяно стала бродить по своей квартире. Было тихо, как в уме дьявола. Но мало ли что можно чувствовать. Тишина бывает и очень скромной, почти затаенной.
Анна Петровна зашлепала на кухню. «Надо поставить чайник, хочется попить, — мелькало в голове. — А пока подмету. Подмету я, подмету».
И она стала подметать. «Пыли-то сколько», — не ожидала она.
Пыль убиралась планомерно. Еще бы, одна уборка с небольшими перерывами, занимала четыре часа.
Посмотрела в окно. И ей вдруг померещилось, что там уже бились, не зная пути, черные птицы.
«Не надо их пугать. Хорошие твари», — подумала Анна Петровна.
Во время уборки мысли надолго пропадали и тогда и мир, и сама она становились похожими на туман.
«Туманом быть хорошо, — подумала Анна Петровна и тут же воскликнула про себя. — Какая глупость, что это я. Надо отгонять глупые мысли».