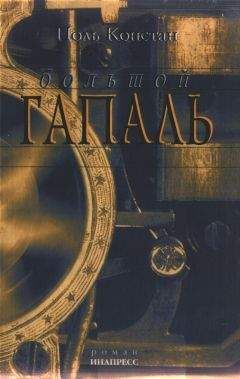— Господин Панегирист, — поинтересовался Исповедник, — как обстоит дело со святостью Жюли?
— Неважно, я полагаю, — ответил тот, — она поддается ненависти и отчаянию.
— Тогда взгляните на мои успехи.
Он привел его на лужайку, где пытались возвести в сан первую Жанетту. Ей остригли волосы под горшок и обрядили в мужское платье. Самое трудное было взгромоздить ее на лошадь, которая не понимала важности момента и не желала стоять смирно.
— У крестьян имеется такая странность, — объяснял Исповедник, — они совершенно не умеют держаться на лошади, вцепляются ей в гриву, ложатся плашмя на шею.
Жанетта так крепко ухватилось за головку передней луки седла, что всунуть ей в руку орифламму не представлялось никакой возможности. Лошадь отпрянула, и девочка грузно свалилась на землю. Ее вновь водрузили в седло и для пущей прочности привязали веревками. Она казалось не победоносной святой, но несчастной пленницей, молящей о пощаде. Сбившиеся в кучку на краю поля пахари, забывшие про свои борозды, надрывались от смеха.
— С этой не получилось, — прокомментировал Исповедник, — но у вас осталось еще целых девять, опыт — дело наживное…
— Скажем прямо, господин Исповедник, скажем прямо, лучше уж порочность Жюли, чем эти откормленные телеса добродетели, которые мешают им держаться на лошади.
— Так что же делать? — спросил Исповедник.
— Выдать их замуж, — ответил Панегирист.
— Вот это правильно, — одобрил Исповедник, — замужество — лучшее разрешение всех их проблем.
Позабыв о Жанеттах, он с чистой совестью посвятил себя Эмили-Габриель. Всем, кто готов был слушать, он рассказывал, что ее лицо, озаренное внутренним солнцем, сияло так ярко, что даже нищие, клянчившие монетки, забывали о своем презренном занятии, оборачивали свои лица к ее лику, чтобы от него тоже получить хоть немного света…
— Святая, — шептали вокруг.
— Ах, не знаю, — не унимался Исповедник, — трудно пока сказать, — но всем своим видом давал понять, что он не просто сказал это, но провозгласил.
19
НЕОБЫКНОВЕННОЕ НЕСЧАСТЬЕ
Отныне Панегирист не расставался с Жюли, которая его просто-напросто поработила. Свое состояние он переживал с неизведанной прежде страстью и отмечал ее малейшие движения и жесты, удивляясь лишь, что на бумаге ее очарование тускнеет и блекнет. Ничего удивительного в этом не было, ведь если недуг Ирен испортил ее лицо, тело он не затронул совершенно. Всю свою жизнь она оставалась женщиной с ног до головы. Под юбкой это была совсем юная девушка, и ничто не доставляло Панегиристу такого удовольствия, как подниматься вслед за нею по лестнице, когда она демонстрировала свои ножки.
— Какой же я ничтожный панегирист, — думал он. — София-Виктория нравилась мне больше всего в купальне, Эмили-Габриель — когда она прыгала, Жюли — когда она поднимается по ступенькам, возможно, и какая-нибудь Жанетта понравилась бы мне на лестнице! Наверное, я всегда был влюблен лишь в тело святости и, обязанный записывать слова, в действительности храню в памяти лишь позы.
Подобно многим особам, которые разочаровались в людях и чьи сердца изнемогают от одиночества, Жюли неожиданно затребовала себе собачку, которую пожелала назвать Зельмирой. В деревне не нашлось ничего, что могло ей подойти, здесь водились лишь огромные рыжие дворняжки на длинных лапах, которые, старея, дичали и бегали по окрестностям. Все-таки Панегирист раздобыл для нее одну, породистую, которую можно было засунуть в муфту. Он сам и преподнес ее на подушке с кисточками такого же синего цвета, как и ленточка, что он обвязал вокруг ее шеи.
— Я превышаю свои полномочия, — думал он, — я вхожу в историю, между тем как должен быть ее бесстрастным свидетелем, но, право, это сильнее меня.
Жюли была очарована и пожелала сделать из нее ученую собачку вроде тех, что на ярмарках ходят на задних лапках, скрестив передние на груди, изображая монашек. Она стала учить ее разным фокусам, например прыгать через обруч, кувыркаясь при этом вперед и назад. Зельмира довольно быстро усваивала то, что требовала от нее хозяйка. Тогда Жюли, мечтавшая о том, чтобы все оценили ее талант укротительницы, решила устроить спектакль для всех обитателей замка. Слуги стояли сзади, Эмили-Габриель, как неживая, сидела между Исповедником и Панегиристом, который наблюдал за происходящим ревнивым оком, Демуазель де Пари вызвалась аккомпанировать.
Когда Зельмира изобразила монашку в чепце, семенящую медленными шажками по полу, Исповедник выразил свое восхищение. Слуги зааплодировали, когда она прыгнула. Жюли подняла обруч выше, собачка прыгнула снова. Жюли подняла обруч выше головы, Зельмира прыгнула, но, приземляясь, упала и сломала позвоночник. Эмили-Габриель поднесла ладонь ко рту.
— Ах! — воскликнула Жюли, размышляя, как можно поправить дело.
— Она мертва, Мадам, — произнесла Эмили-Габриель со слезами на глазах, — я умею теперь распознавать это состояние. Вы слишком много убиваете. Господин Исповедник, — сказала она, — соблаговолите соборовать Зельмиру, она умерла истинной мученицей. Нужно дать ей достойное место в списке наших святых.
— Святая, — согласился Исповедник, — вы совершенно правы, нельзя, чтобы в этом мире от нас ускользнула хотя бы частица святости. Я провозглашаю, отныне Зельмира с белыми лапками и синим бантом причислена к лику святых. Аминь.
Обратив внимание, что время от времени благодаря животным к Эмили-Габриель возвращается сочувствие, Жюли бросилась к ее ногам.
— Ах, Мадам, — рыдала она, — если вас охватывает порой жалость к телесным недугам, отчего же вы ее не чувствуете к недугам душевным? Если вы посещаете больных и ласкаете животных, отчего бы вам не обратить внимание на несчастья особы, которая живет в настоящем аду и не знает отдохновения? Если вы смазываете лекарством самые страшные раны, отчего не найдете снадобья от той раны, что пожирает меня? О Мадам, я всего лишь гнусная язва, покрытая гноем и паразитами. Мои страдания поистине нестерпимы.
Панегиристу показалось, что он вот-вот разразится рыданиями, а Эмили-Габриель почувствовала благотворную влагу на глазах.
— Расскажите мне все, поведайте мне о своих несчастьях, не упуская не единой подробности. Когда мы только познакомились с вами, вы грезили о светской жизни? Насколько мне известно, вы вышли замуж?
— Да, — ответила Жюли, — замуж за посланника, который был довольно необычным человеком.
— Где же вы жили?
— В Византии, где мой муж запер меня в гарем вместе с принцессами. Он вовсе не любил меня, он расточал свои ласки какой-то рабыне с востока, одетой всего лишь в прозрачные газовые панталоны и коротенькую вышитую накидку, с ней он целыми днями возлежал на коврах и курил кальян. А я все это время считала изумруды принцесс и пропускала их через маленькие золотые колечки, чтобы измерить величину. Изо дня в день мы возились только с этими изумрудами. Каждое утро их нам приносили евнухи, а когда мы засыпали — а это становилось понятно потому лишь, что наши глаза закрывались, ведь все мы с утра до ночи и так лежали на подушках — евнухи уносили их и запирали в сундуки. Причем меня, как чужестранку, обыскивали самым унизительным и оскорбительным образом, чтобы убедиться, что я ничего не оставила себе.
— Так вот, значит, в чем состоит работа жены посланника!
— Не только, есть еще и другая: просовывая изумруды в колечки, приходилось целыми днями слушать самые фривольные разговоры. Ибо принцессы с утра до ночи только и говорят о любви, но говорят совсем не так, как мы, не о возлюбленном, что волнует сердце, а о любовниках, что возбуждают тела. Я даже не смею повторить вам, что приходилось мне выслушивать о размерах, особенностях, свойствах полового члена Его Величества Султана, я словно воочию видела его перед собой! А знали бы вы, как они целый день готовятся к штурму, который может наступить в любую минуту, без предупреждения, поэтому они всегда наготове, они без конца велят себя массировать, натирать благовониями, разминать руки и ноги, репетируют уловки, которые помогут им, порядочным женам, привлечь внимание супруга. Они занимаются этим постоянно, без устали, помогая одна другой, сравнивая, учась, поучая. В своих наставлениях они необыкновенно требовательны, и я, оказавшись поневоле их ученицей, смогла убедиться, как они суровы в этой области, которая не терпит никакой приблизительности. Меня зачастую били, потому что я плохо усваивала их уроки.
— Бедняжка Жюли, какая печальная участь! Но вы до сих пор помните эти уроки?
— Еще бы, мне они были преподаны так, что забыть их невозможно. Стоит мне только оказаться на персидском ковре…
— Персидском?
— …или турецком. Как вам будет угодно, с красными узорами, маленькими голубыми птичками и словами Пророка, вышитыми шелковыми нитями.