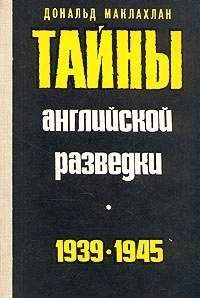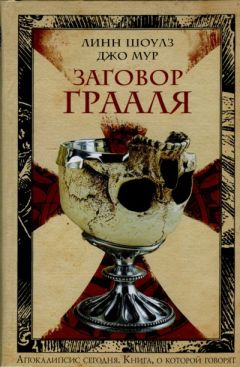Стул изрядно поскрипел, словно того унижали — не считаясь с возрастом, продолжали эксплуатировать.
— А ты сам-то, кем будешь? — теперь поинтересовалась она.
Рамсес задумался, но ему ничего не пришло на ум.
— Партизан, что ли? Молчишь, — пошутила бабуля и сама же посмеялась.
Он никак не отреагировал. Вместо этого Рамсес осмотрел комнату с выбеленными стенами. Помимо уже состоявшегося знакомства с предметами, он обратил внимание на ковер — плетенный из каких-то лоскутков в основном желтого и зеленого цветов. И больше ничего особенного в этой комнате взглядом он не отыскал. Пожалуй, стареющие деревянные фрамуги окна могли единственно «похвастаться» благородной величественностью времен. На что указывала краска, которая с годами превратилась в многослойную радугу, отчего она периодически лопалась, но поверхность каждый раз ублажали новым тоном. Сейчас им, как и стены, являлся цвет белый.
— Я, где? — спросил Рамсес вместо того, чтобы назвать свое имя, которое он не смог вспомнить.
— Где, где, — вздыхая, отчиканела бабуля и коротко, но более громогласно и отчетливо ляпнула: — В избе! Не желаешь называться, так и ладно. Вставай! Есть пойдем! — скомандовала она и, напуская строгости, недовольно спросила: — Или тоже сюда принести?
— Я встану, — тихо повиновался недовольному тону Рамсес.
— То и вставай, — на сей раз, спокойно среагировала бабуля и устало добавила: — Негоже до обеда-то спать.
— А обычно скольки я сплю? — поинтересовался он на манер бабули, мелодичная речь которой, лаская колоритным произношением уши собеседника, магическим образом подстраивала под себя любого говорившего с ней.
— Почем же, милок, я знаю? Нынче ты спишь со вчера. Як Дэвис-то тебя привез к нам.
— Я приехал с Дэвисом?
— В корыте!
— В каком корыте? — от удивления, сам того не ожидая от себя, Рамсес тоже протянул букву «о» и сделал на ней ударение, точно так же, как произносит бабуля, когда в распоряжение ее речи попадаются слова с «о».
— Корыто, як корыто и не скалься мне! — сказала она, упреждая наперед собеседника, чтобы он больше не передразнивал!
— А…где сейчас Дэвис? — спросил Рамсес, подозревая, что от бабули нормальных ответов, как и (определенно) знакомого произношения русских слов, не добьешься.
— Да, за хлибом пошел и што ж пропал, — немного порассуждала она и тут же вновь скомандовала: — Пойдем есть!
Бабуля с трудом встала и медленно, не особо поднимая ноги, направилась в соседнюю комнату, как и прежде, шоркая подошвой.
Из последних сил он поднялся с кровати. Ныла голова и ломило все тело. Раздавленное состояние увлекало за собой остатки сил и ему захотелось лечь обратно.
— Ты встал-то? — вопросила бабуля из соседней комнаты.
— Иду, — невесело откликнулся Рамсес.
Только теперь он обратил внимание, что раздет до плавок. Кровать была железной и по обе стороны с душками, у изголовья они были выше, где на плечиках Рамсес увидел аккуратно висевшую одежду.
— Мне это надеть? — как можно громче и покороче спросил Рамсес.
— Так вона ж твоя? — отозвалась бабуля. — Дэвис-то почистил ее и погладил.
Понадобилось время, чтобы Рамсес оделся, но бабуля его не торопила и более не звала. Когда он, наконец-то, сделал первый шаг, то слегка пошатнулся, но устоял на ногах. Второй шаг дался немного уверенней: в целом же походка не особо отличалась по темпу и подъему ног над уровнем пола от бабули. Так же, как и она, он медленно проследовал в соседнюю комнату.
За стол они сели вдвоем. Комната, где они теперь находились, окном и видом стен в точности копировала предыдущее помещение. Рознила оба пространства лишь русская печь больших размеров, и таких, что всей своей длиной она делила комнаты.
Эта неказистая, но белая — не иначе как — светлица с неидеально ровной поверхностью стен была наполнена кухонной утварью, которая аккуратно расположилась на открытых «дореволюционных» полках. Продолговатый потрескавшийся с годами и изрядно потертый обеденный стол с толстой столешницей, за которым сидели они, был дополнен тремя табуретками, как и в предыдущей комнате, по возрасту определенно подходя к высокому тут своему столищу.
— Соль запамятовала, — заботливо спохватилась бабуля. Она встала и подошла к одной из полок, причитая: — уж не знаю, принесет ли, нет, окаянный, тот хлиб. Бывало, як упретси, — она махнула рукой, возвращаясь за стол с солонкой, — да не вернется, поки не стемнеет. А я уж и тебя заждалась, пока ты проснешься. Есть уж больно охото, — добавила она после паузы, медленно и тяжело присаживаясь за стол.
Из предложенного бабулей в качестве еды был суп. Перед каждым стояла алюминиевая миска в комплекте с ложкой из того же мягкого металла и больше ничего.
Рамсес взял в руку ложку.
— Погодь! — строго сказала бабуля, а добавляя, она тон смягчила: — Помолиться-то перед едой надобно.
Он опустил ложку и, пытаясь понять, что происходит, спросил:
— Это как? Оно обязательно?
— Помолиться — не обязательно, а за пищу не поблагодарить — грех!
Тяжело представляя, о чем идет разговор, он добавил:
— Всегда?
— Грех-то? — переспросила она и сама же ответила: — Да, всегда, — затем она усмехнулась, задействовав часть мелких морщин у рта, — чудной ты! — после сказанного как вердикт по отношению к нему, бабуля смякла и спокойно сказала: — Посиди молча, пока я помолюсь. А станем кушать, и поговорим. Так-то с голоду помрем, пока ты все переспросишь.
Старые морщинистые пальцы она сжала в кулак и на него положила ладонь другой руки с тем же древним кожаным покровом. Острыми локтями она оперлась на край стола, а лбом, порезанным глубокими складками, как отметинами прожитых десятилетий, она прикоснулась к кисти рук. Закрыв глаза, бабуля наклонила голову и, прервав тишину, о чем-то тихо начала вещать. Закончив молитву, она перекрестилась.
— Ноги болять, уж не могу стоять подолгу, — посетовала она. — Ешь, милок. Теперь ешь.
Еда оказалась вкусной, о чем вслух сообщил Рамсес.
На что бабуля, похожая в платье на одинокую раритетную модель штучного экземпляра для демонстрации подсолнухов, ответила:
— Со свого огороду: и копусточка, и морковь, и лучок — все там и жарено на жирку. Хватит всяго тябе. Ешь. Мясо только нету. Месяц есшо не начался.
Они кушали не спеша.
Им некуда было спешить. Сидеть же в тишине Рамсесу не хотелось и он снова решил спросить. Но, оказалось, уточниться он может только о тех коротких эпизодах, которые запомнил с пробуждением — ничего иного память не воспроизвела… И Рамсес, вяло вздохнув, промолвил:
— Вы каждый раз молитесь перед едой?
В ответ бабуля лишь продолжила есть.
Он усомнился, слышала ли она и спросил громче:
— А кому вы молитесь?
Если учесть, что она слышала вопросы, то, как и прежде, бабуля и теперь не спешила с ответом.
Он решил, что она почему-то перестала слышать, и спросил громко, объединив оба вопроса:
— Вы все время молитесь перед едой и кому? — и, чтобы закончить с вопросами по одной теме, он добавил: — А говорите одно и тоже?
— Да, что ж ты раскричалси, як ума лишилси? — ответила, наконец-то, она. — Ем я и думаю, что сказать-то тебе, милок. Вы ж, — отчего-то так охарактеризовала бабуля в лице Рамсеса все растущее население, — ни в Бога, но и не в дьявола не верите, о то-то я и думаю, зачем тебе это? А коли спросил, помышляю, шо сказать.
Слова «Бог и дьявол» ему были не знакомы. После пробуждения, он не мог вспомнить, что-либо из личной жизни, но до этого момента, Рамсес думал, что в памяти все же сохранены основные базовые знания, как универсальные на все случаи жизни. Примером тому служило то, что он знает, как кушать. Но, все же усомнившись в своих фундаментальных знаниях, он попросил бабулю уточнить смысл этих слов, чтобы «оценить» новые возможности своего мышления. С недоумением услышав от Рамсеса подобное, сначала она высказалась о том, что думает о современной молодежи, а затем объяснила ему, Кто есть Бог и каков дьявол.
В процессе пояснения, им овладел — согласно последующему Божьему наказанию — ужас, что он мог, не помолившись, сразу же приступить к еде. Помимо этого, он опять услышал немало новых слов, значение которых Рамсес (и теперь это ему было очевидно) явно не знал. Одно слово — «грех» — повторялось неоднократно.
Рамсес самостоятельно провел аналогию, без прямого уточнения со стороны бабули, и понял, что словом «ад» обозначено одно место, где посмертно принуждают к мученическим страданиям и те души, которым было проблематично следовать простым семи заповедям.
Тем временем бабуля продолжала:
— То в детстве моем було. Я с родителями, Царствие им Небесное, — сказала она и перекрестилась, — не тут мы тода жили, дальче-то от города. Щас-то уж и столица сюда дошла. Ничего не поймешь. Но раньше я далече отсюда жила. Зимой тода метель поднялась, а ночью, когда мы сидели при лучине, заслышали сначало колокольчик, шо на тройках обязательно був. А потом и к нам в избу постучались. На ночлег. Нас много тода было в семье, поныне — одна я осталось. Меня все Бог не приберет к Себе… Отец и мама путников пустили-то к нам. Они шипко богатые были, да сами двое, да двое детей с ними. Нас на печь согнали, а им стол накрыли. Путники попросили родителей тоже с ними сесть. Як и водится, отец хотел молитву прочитать перед едой. На что путник, глава того семейства, сказал: «А мы уж так не делаем, потому шо в ней перед едой повторяется одно и то же. Стало быть, молитвы по привычке — пустая болтовня, а одни и те же слова не помогают вовсе стол накрыть». Так сказал он и, помню, було неловко всем. Отец не осмелился перечить богатому путнику и остальные за столом тоже молчали. Только его дочка, шо сидела с ними рядом, спросила у свого отца: неужели мне не нужно теперь приходить к тебе, як я проснусь, и по привычке говорить: «Доброе утро, папа!»?