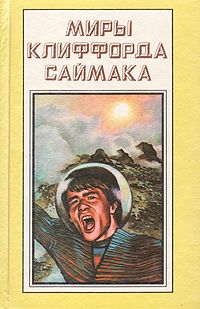Ну да, вот такое славное будущее его ждет, об этом нетрудно догадаться, если снять с глаз пелену наивности и посмотреть в корень. Готов держать пари, насколько это позволяет мое скромное жалованье, что вскоре Пианист заживет припеваючи. Я не имею в виду, что к нему вернется речь, это было бы против законов жанра и совсем не в его пользу, ведь в таком случае распадется образ, над которым наш ловкач трудился не один месяц, и вся работа пойдет насмарку. Иными словами, он останется немым, как и предписано сценарием, однако в конце концов сможет покинуть больницу и вкушать плоды славы — то будут плоды сочные, изобильные, мировой успех, какого не знал еще ни один солист. Перед ним распахнутся двери всех концертных залов, у него аж глаза начнут разбегаться; вероятно, его потянет туда, где больше заплатят, — что ж, разумеется, бедный мальчик столько выстрадал (но что за беды обрушились на него? неизвестно!), ему позволительно и о деньгах подумать. И в день, когда он выйдет из своих роскошных апартаментов в «Клериджсе», или «Крийоне», или «Вальдорф Астории» и усядется на благословенный табурет, все телеканалы будут транслировать концерт напрямую, а избранная публика жадно проглотит, до последней ноты, сонаты Бетховена, Листа, Шопена или любую другую музыку, которую он соблаговолит включить в программу вечера, — проглотит охотно, со слезами на глазах, им ведь выпало редкое счастье чествовать своего любимца.
Это непременно произойдет, повторяю, поскольку так уж устроен мир, и тот, у кого хватит смекалки понять это, никогда не упустит своего и поймает удачу за хвост. И все же мои слова не следует воспринимать как предостережение: зачем прислушиваться к ним, если заблуждаться гораздо приятнее и выгоднее? Я уже представляю, как мое письмо скомкают и в негодовании швырнут в мусорную корзину, даже не передав на рассмотрение следственным органам, — в конечном счете это резонно, у вас нет оснований верить мне. Но в тот день, когда Немой Пианист усядется за рояль и на него уставятся все телекамеры мира, пусть поостережется: одно из мест в первом ряду займу я, нанеся удар по своим скромным сбережениям покупкой этого билета; я буду внимательно следить за ним и весь обращусь в слух, в любую минуту готовый разоблачить его, если он совершит малейшую оплошность, сделает один-единственный неверный шаг.
Сегодня Надин не пошла в зимний сад. После дежурства она сразу поднялась к себе в комнату, и, когда в мансарду просочились далекие звуки рояля, она закрыла голову подушкой, чтобы не слышать. Она ненавидела эту музыку, как ревнивая женщина ненавидит свою соперницу.
К ужину она спустилась в столовую, поклевала, словно птичка, потом вернулась к себе и весь вечер пролежала пластом на кровати, даже не притронувшись к свежим, дразнящим любопытство журналам, с обложек которых улыбались знаменитые лица. Напрасно она скользила взглядом по пустым стенам в поисках хоть какого-то утешения: чемодан уже собран, в нем сложены и яркие постеры, и календарь со звездами Озерного края, и фотография, на которой она стоит в компании однокурсниц в день защиты диплома; портрет Немого Пианиста она в порыве ярости разорвала на мелкие клочки накануне ночью, и теперь на нее смотрели только голые, унылые стены. Комната, в которой она прожила столько месяцев, которую приручала мало-помалу, делясь с ней самыми заветными своими вещами, и старалась превратить в дом или хотя бы в видимость дома, — теперь эта комната опустела, стала чужой, безликой и постылой, как зал ожидания, и, похоже, даже спешила стереть с себя последние следы присутствия Надин.
Несправедливо, думала она, подразумевая и то, что ее уволили, и унижение, которое ей пришлось вытерпеть по вине мальчишки, причем она уже не могла отделить одно от другого и приписывала оба обстоятельства пагубному влиянию не столько пианиста, сколько рояля — черного адского механизма, который она имела неосторожность воскресить, извлечь на свет из-под слоев пыли и очистить от паутины; собственными руками она натирала до блеска его тусклые бока. Пробудившись от летаргического сна, чудище показало, на какие злодеяния оно способно, и Надин горько раскаивалась в том, что с таким рвением взялась обихаживать его. В ее душе зрели планы мести — сперва робкие и неопределенные, они напитывались решимостью и коварством по мере того, как на землю спускалась ночь, окутывая больницу тишиной и гася всякое движение.
Когда часы в холле пробили полночь, она содрогнулась при воспоминании о том, что произошло ровно сутки назад, ее словно пронзила острая, нестерпимая боль. Новый год наступит только завтра, значит, сегодня обыкновенная ночь, врачи и пациенты должны улечься спать вовремя, а может, даже раньше обычного, после праздничного-то веселья. Скоро даже самые заядлые читатели потушат свет, дежурные медсестры начнут клевать носом, и она сможет незаметно выйти из комнаты, и никто не помешает ей осуществить отчаянный замысел.
Она выждала еще час, то и дело поглядывая на циферблат; надела кеды — единственную пару обуви без каблуков, которая у нее была, и, убедившись в том, что резиновая подошва позволяет ей ступать бесшумно, выскользнула в коридор, тихо затворив за собой дверь. Так же осторожно она кралась по больнице в тот злополучный вечер, когда потащила юношу в «Красный лев», но тогда ее сердце радостно билось в предвкушении триумфа, а теперь все надежды рухнули, кроме разве что надежды дать выход бессильной злобе, которая разъедала ей душу.
И направилась она тоже в другую сторону. Вместо того чтобы пойти по коридору, ведущему в мужское отделение, Надин осторожно спустилась по дубовой лестнице, стараясь, чтобы ступени не скрипели под ее шагами, и, оказавшись на первом этаже, двинулась в направлении склада. Походка ее была твердой и решительной — так спокойно и уверенно идет тот, кому уже нечего терять. Более того, ей даже хотелось, чтобы ее застукали, да, пусть сам главный врач застанет ее врасплох, но только уже потом, когда все будет сделано, — и вот тогда, подражая героиням сериалов в моменты торжества, она рассмеется ему в лицо и скажет, что он может хоть сейчас выгнать ее, это его право. Чемоданы у нее собраны, и она спит и видит, как бы поскорее распрощаться с больницей вместе со всеми ее обитателями.
И вот, повторяя вполголоса эти колкости, шлифуя едкие слова, как актер, который репетирует роль перед выходом на сцену, она добралась до склада. И сразу нашла что искала — остро наточенный топор, не слишком, однако, увесистый, чтобы ей, такой хрупкой, не составило труда его поднять. С топором в руке она покинула склад и пошла к зимнему саду; ее охватило волнение, и она уже не была так уверена в себе, но главное ее оружие — отчаяние — по-прежнему было при ней, никто не мог отнять его, и под защитой этой крепкой брони она казалась неуязвимой.
Ну что ж, здравствуй, зимний сад, подумала она, открывая дверь. Свет на этот раз она тоже решила не включать — из предосторожности, и мерцание гирлянд за окном снова разбегалось бликами по поверхности рояля, нащупывая во мраке его большое черное тело. Она направилась к сцене. И хотя на ней были кеды на резиновой подошве, Надин казалось, что каждый шаг отдается в тишине гулким эхом и она отстукивает марш по деревянному полу. Приближаясь к роялю, она замерла: звук шагов словно утопал в каком-то невнятном гуле, приглушенном, но все-таки явственном. Она прислушалась, но не услышала ничего, кроме собственного дыхания, которое стало прерывистым и чуть более тяжелым, чем обычно, — то ли от волнения, то ли оттого, что она несла топор. Ну конечно, успокоила она себя, я просто немножко запыхалась. И уверенно двинулась дальше. Но тут же встрепенулся и пришел в движение странный гул: это было не дыхание, скорее — тихое нашептывание, похожее на шорох, оно исходило не из ее груди, как ей показалось сначала, а из глубины зала, оттуда, где на стеклах был вырезан темный и блестящий силуэт рояля.
Изумленная Надин крепче сжала топорище и несмело пошла вперед. Отступать теперь, ясное дело, нельзя — не для этого она явилась сюда. Ни за что на свете она не повернет назад, пока не задаст хорошую трепку своему врагу. Чтобы набраться смелости, она снова стала придумывать разговор с главным врачом, однако на сей раз дерзила ему вслух — ее голос подминал под себя чужеродный шум. В детстве Надин всегда пела, когда хотела побороть страх, да и солдаты, идущие на бой, разве они не горланят песни? «Это был „Стейнвей“, уважаемый мистер, а теперь его не стало. Груда хлама, искореженный металл и щепки, которые вполне сгодятся для камина». Но каждый раз, когда она замолкала, чтобы перевести дух или подобрать словечко поязвительнее, сквозь темноту опять прорывался слабый, истончившийся шелест, и у нее замирало сердце.
Чем глубже в зал она пробиралась, тем явственней становилось ощущение, что невесомый, хрупкий шепот исходил от рояля; глупости, ерунда, решила Надин, рояль молчит, пока к нему не прикасаются, стоит себе смирно, немой как рыба, и ждет, когда на нем заиграют. Или разнесут его, добавила она мысленно, чтобы завершить картину, но это слово «разнесут» вдруг предстало перед ней во всей своей странной, пугающей наготе, точно речь шла о чем-то большем, нежели груде железок и гладко обструганных досках.