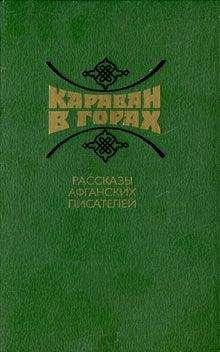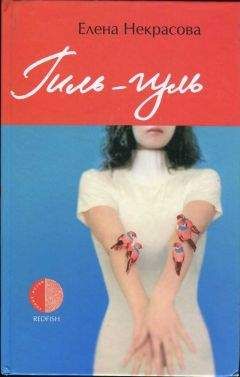— Так я в самом деле красив? — не отставал он, с самодовольным видом приглаживая волосы и поправляя парик. Мне стало грустно.
Бывало, что мы случайно встречались с ним по дороге на занятия. Останавливаясь у витрин, Юсеф первым делом глядел на цену, которую сразу переводил на «наши» деньги и, повторив свое «слишком дорого», сокрушенно качал головой и отходил. Не помню, чтобы Юсеф покупал что-нибудь, кроме еды, и то самую малость: булку и три-четыре яйца — вот и все. Одежду он донашивал старую, которую привез с собой шесть лет назад. Дома он целыми днями слушал Брассанса, свою единственную кассету, купленную давным-давно.
Однажды, когда я была у себя, кто-то позвонил в дверь. Я открыла и увидела Юсефа.
— Знаешь, Брассанс приезжает, — начал он прямо с порога. — Из Парижа. — Он переминался с ноги на ногу, видимо, желая сообщить еще что-то.
— Откуда ты знаешь?
— Уже афиши расклеены.
— И скоро он приезжает?
— Через месяц.
— Уж ты-то наверняка пойдешь?!
— Пойдешь… Билет, знаешь, сколько стоит? Шестьдесят франков! Шестьдесят франков… — Казалось, он только сейчас это понял и немедленно принялся считать. Получив какую-то астрономическую цифру, он с досадой произнес: — Как дорого, как дорого! Ну почему так дорого, бог ты мой?! Пойду… Не пойду… Как не идти, ведь Брассанс не каждый день приезжает…
Позднее, выйдя зачем-то из дома, я убедилась, что Юсеф не ошибся: афиши с портретом Брассанса попадались в городе буквально на каждом шагу. Билеты надо было заказывать за месяц. Я пошла в кассу. И когда кассирша, глядя на меня сквозь очки, спросила, сколько нужно билетов, я неожиданно-для себя сказала: «Два». На одном билете написала свое имя, на другом — имя Юсефа, отдала деньги и ушла. Мороз на улице пробирал до костей. Изрядно продрогнув, я добралась до дома и позвонила в дверь Юсефу.
— Где ты была? — спросил он.
— Купила билет на Брассанса.
— За шестьдесят франков? — Он посмотрел на меня с нескрываемой завистью.
— Я и тебе купила…
Он переменился в лице, даже стал заикаться.
— М-не… М-не?.. — Выхватив у меня билет и увидев на нем свое имя, он посмотрел на меня с глубокой признательностью. Я была тронута.
После этого при встречах со мной Юсеф не мог говорить ни о чем другом, только о концерте Брассанса. С каким нетерпением он его ждал!
* * *
Тот вечер выдался на редкость холодным. Только в зале я немного согрелась. Зал был полон. Все то и дело поглядывали на часы. Место рядом со мной пустовало. Юсеф еще не пришел.
Странно! Я думала, он придет задолго до начала — ведь он дни считал до концерта! Зрители все подходили и подходили. До начала оставалось совсем немного. Начали гаснуть люстры… Соседнее кресло оставалось пустым. Я не знала, что думать. На сцену вышел Брассанс. Седина придавала его облику величавость и красоту.' На нем был простой белый костюм. С микрофоном в руке он спокойно прохаживался по сцене… и молчал. В зале воцарилась тишина. Все ждали, затаив дыхание. Но вот раздались тихие, плавные звуки оркестра и послышался низкий печальный голос певца. Кто-то сел рядом. Покосившись в ту сторону, я увидела сначала чей-то толстый живот, а затем его хозяина — встрепанного, краснолицего старика со слезящимися глазами и отвислой губой.
— Вы сели не на свое место, — шепотом сказала я.
Он уставился на меня и недовольно спросил:
— Разве это не сорок девятое место?
— Сорок девятое, но… как же так?.. Это место моего знакомого…
— Не знаю, не знаю, — ответил старик раздраженно. — Этот билет я купил у входа.
— У кого?
— Имени я не помню… кажется Юсеф… Э-э… иностранец какой-то.
— Когда? Где?
— Да только что, прямо у входа.
Он не спеша полез в карман и вытащил половинку билета, ту самую, на которой я написала «Юсеф Бехруз». Сердце у меня упало. Меня била дрожь. На сцене угрюмый и хмурый задыхался и хрипел Брассанс.
Концерт кончился, а я никак не могла прийти в себя. Кружилась голова. Я почти ничего не поняла из того, что пел Брассанс. Вместе с толпой я направилась к выходу. Снаружи пахнуло холодом. Я поежилась: мороз колол как иголками. Было поздно. Уже пахло утром, свежим морозным утром. Я спускалась по лестнице, глядя перед собой. Впереди по тротуару кто-то быстро бежал. Я сразу узнала Юсефа, хотя он был ко мне спиной и бежал очень быстро…
Цифры оказались сильнее и в этот раз, продержав его на морозе до поздней ночи. Цифры, цифры… Редкие уличные фонари светили холодно, стыло.
Перевод с дари Ю. Волкова
С самого утра в доме царила атмосфера тягостного ожидания. В белевшей под потолком нише стояли загодя припасенные миска для воды и широкое блюдо с рутой. На большом гвозде, наводя уныние, висела солдатская форма. Под ней — на полу — лежали старые портянки и поношенные башмаки.
Откинув с лица чадру и обернув ее вокруг шеи, женщина опустилась на колени лицом к Мекке, молитвенно воздела вверх руки, шепотом произнесла заклинание и, чтобы оно подействовало, шумно подула во все стороны. При этом взгляд ее задержался на блюде с рутой.
— Помоги нам, аллах! — шептала женщина, не сводя глаз с висевшей на гвозде формы. — Избавь от жестокостей изувера, неверия и безбожников. Благослови, боже, Мухаммада и весь род его…
По ее лицу текли слезы, прячась в морщинах. Вдруг, словно вспомнив что-то, она вытерла слезы и встала. Захлопнула ставни, открыла большой железный сундук, достала полинявшие от времени шаровары и накидку, надела, обула пайзары', быстро спустилась по неровным ступеням и пошла к колодцу. Набрала воды, зачем-то вымыла руки и крикнула:
— Матушка Хадиджа! Если Акрам мой придет, скажи, что я ушла молиться.
«Мой Акрам… — повторила она про себя. — Акрам…»
Из-за занавешенного окна послышался женский голос:
— Ну куда тебя несет?! Знаешь ведь, что в городе творится!
— Знаю. Да невтерпеж мне… вся душа изболелась. Схожу в усыпальницу Влюбленных и Мудрых, поклонюсь святым могилам. Попрошу… — К горлу подступил комок. На глаза навернулись слезы. Но вспомнив, какое важное ей предстоит дело, женщина не заплакала, а, пристально глядя на каменные плиты колодца, сказала с сомнением и надеждой: — Больше не буду… слезы, говорят, не к добру…
Она решительно направилась к воротам и сняла с крючка толстую цепь. Цепь закачалась, привычно скользя в накатанном полукружье. Женщина вышла было со двора, но тут же вернулась и, крикнув матушке Хадидже, чтобы заперла двери, снова вышла за ворота.
Одну за другой она миновала несколько узких улочек. Лавки были закрыты. Во всем чувствовалась смутная, неясная тревога. Проходя мимо группы мужчин, она замедлила шаг. Мужчина в большой черной чалме и накинутом на плечи стеганом халате, расчесывая пятерней длинную седеющую бороду, говорил:
— …Проклятые «англизы»! И вся их порода поганая…
Услышав слово «англизы», женщина испугалась: ей представились чудовища с горящими глазами, устремившие на нее злые, жадные взгляды. Сердце сжалось от боли, и она поспешила дальше. Неясный гул подсказал ей, что она наконец пришла.
Всё, кроме главного, моментально улетучилось из ее сознания. Она вошла в ворота и увидела множество мужчин и женщин, в их глазах была мольба и надежда. Не открывая лица, она слегка приподняла край чадры и стала пробираться вперед. Ей не терпелось поскорее выплакать свое горе. Сделав несколько шагов, женщина сняла пайзары. Сидевший у входа старик проворно подцепил их длинной палкой и поставил в ряд с остальными. Женщина невольно покосилась в тот угол, где длинными рядами стояли старые и новые туфли и, словно улыбаясь кому-то, кривили разинутые рты. Произнеся «Бисмилла…»[Пайзары — туфли с загнутыми носками.], женщина поставила крашенную хной ногу на холодную каменную ступень белой лестницы… Затем поднялась по другой, маленькой лестнице, вновь повторила: «Во имя аллаха…» и свернула направо. Возле большого надгробья за деревянными решетками она остановилась. Камня не было видно — его скрывали украшенные надписями ленты. Подавшись вперед, женщина взяла в руки висевшие на решетках замочки и поцеловала, уронив на этих безмолвных, терпеливых слушателей несколько слезинок.
Седобородый старик в чалме сидел, упираясь коленями в пол, и перебирал длинные четки с мелкими деревянными бусинками. Передвинув бусинку, он весь дергался и громко, скороговоркой, произносил что-то по-арабски.
Мать Акрама приблизилась к священным Коранам, разложенным на больших треножниках, поцеловала каждый несколько раз и к каждому прижалась лицом. На стенах, как обычно в подобных местах, почти не оставалось свободного места от наклеенных повсюду полосок пожелтевшей бумаги с молитвами и просьбами. Сгорбленная, беззубая старуха с вялыми губами и изможденным лицом, приклеив свою бумажку, сидела поодаль. Приметив ее, мать Акрама опустилась рядом и тихо спросила: