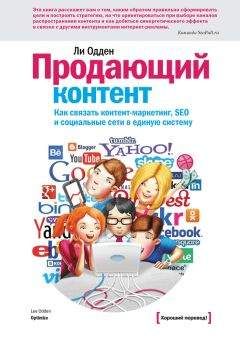— А ну-ка: калинка-малинка! — кривляясь, затянул Серёга.
Но Станислав стоял на том же месте.
— Ты чё, не понял?
— Вы только над закованными в цепи измываться можете? — ответил он, смотря упрямыми светло-серыми глазами чеченцам прямо в лица.
— Ва-я, дерзкий, да? — услыхав такой ответ, Иса аж присел от изумления. — Дерзкий?
— Да он ишак тупой.
— Э, ты чё много разговариваешь? Язык отрежу.
Серёга тут же подскочил к нему и хрястнул кулаком в челюсть. Но Станислав, стиснув зубы, остался стоять. Они, уже предвкушая очередную жестокую забаву, слегка оторопели. Этот высокий русоволосый солдат с клочковатой бородой на исхудалом лице не выказывал страха. И смотрел на чеченцев всё так же: угрюмо, непокорно.
— Чё так смотришь?! — Гаджимурад ткнул его автоматным прикладом в живот. — Моргалы выколю!
Станислав пошатнулся, но устоял на ногах. И замер снова — молча, вызывающе. Чеченцы изумлённо переглянулись. Иса пробормотал что-то не по-русски. Серёга перестал скалиться.
Гаджимурад ударил сильнее. Резко, со злым выкриком. Солдат, мучимый голодом и многодневной усталостью, упал. Серёга, радостно взвизгнув, тут же добавил ему ногой по рёбрам.
— Суки! Суки чеченские! — выдохнул невольник.
Из уст Исы хлынул поток грязной матерной ругани. Этот русский парень в рваном солдатском хэбэ, с разбитыми, но плотно стиснутыми губами, пробудил в нём бешеную злобу. Он не трепетал перед ними — своими хозяевами, теми, от кого всецело зависела его жизнь. Он выглядел непокорным, несломленным, и именно это приводило чеченцев в бешенство.
С налитыми кровью глазами, с искажённым лицом Иса изо всей силы ударил лежащего ногой. Станислав выдохнул с хрипом.
— Ты чё сказал?! А?! Чё сказал?! — орал Гаджимурад и бил жестоко, с остервенением.
— Уроды вонючие!! Шакальё!!! — кричал Станислав, катаясь в пыли. — Не волки — шакалы! Я ваших пятерых на войне положил!!
— Заткнись, свинья!
— Наши вернутся сюда — всем вам кранты!
— Заткнись!
— Тебя — мразь поганая — лично за яйца вздёрну! — извернувшись, выкрикнул солдат Серёге.
Тот с бешеным воем молотил его ногами, прыгал сверху.
— Уро-о-о-ою, падаль! — вопил он истошно.
— Да мы ваших как свиней порвали! — ревел третий чеченец.
Иса вдруг попал ногой по железу оков, вскрикнул, запрыгал на месте, схватившись руками за ушибленную ступню.
— Это мы вас рвали и рвать будем! — выхаркивая густую кровь, выкрикивал, не помня себя, Станислав. — Вы трусы все! Не мужчины! Только и можете роддома захватывать!
Чеченцы с рёвом, рычанием, визгом топтали Станислава ногами, били прикладами. Скованный цепями солдат перекатывался в пыли, стараясь уберечь хотя бы голову, и исступлённо крыл чеченцев дикими ругательствами.
А те всё бесновались, увечили и так уже избитое, окровавленное тело. Наверное, забили б до смерти, но Гаджимурад вовремя спохватился, вспомнив, как отца жаба душила из-за цены этого невольника.
Грязного, всего в крови, едва живого Станислава бросили в зиндан. Иса смачно плюнул на него сверху.
Через три дня Султан с роднёй вернулся обратно. Ашота с ними не было. Ещё только подъезжая к дому, чеченцы с радостным рёвом принялись палить из автоматов в воздух, высовывая из машин жилистые мохнатые руки. Услыхав крики и стрельбу, Гаджимурад опрометью бросился растворять настежь ворота. Возбуждённые бородачи гогочущей гурьбой повалили в дом.
— Пошёл к чёрту! — захрипел Станислав.
Сознание понемногу возвращалось. Вместе с ним по телу разливалась волна нестерпимой боли. Казалось, его недвижимую онемевшую плоть кромсают на части тупыми скальпелями. Ныло, саднило, выворачивало наизнанку всё: грудь, спину, живот, руки, ноги. Казалось, все его мышцы, все суставы и сухожилия слились в единый надрывающийся от боли комок. В гулко гудящей, точно медный колокол, голове крутились, бурлили, наплывали друг на друга какие-то обрывки, образы. В горячечных висках жарко пульсировала кровь.
Бородатые, остроносые чеченцы появлялись на фоне разваливающихся гнилых заборов и бревенчатых изб его села.
Потом мелькали курносые, загорелые, изъеденные глубокими прыщами лица солдат из его роты.
Он слышал стрельбу. Ожесточённую автоматную стрельбу — били и очередями, и одиночными. Рвались гранаты. Протяжно свистели мины. Утробно фырча и лязгая траками, «восьмидесятки» упрямо пробивали себе путь сквозь городские руины. Ползли неуклюже, точно огромные приземистые черепахи. Палили на ходу, содрогаясь корпусом, и из их орудийных стволов вырывалось короткое пламя. Весь этот грохот, свист, вой, лязг отдавался в его голове дикой рвущейся болью. Казалось, изнутри в ней тяжко стучат пудовые железные молоты.
Перед глазами вставали видения разбитого, истерзанного Грозного с полуразрушенными, изрешеченными домами, зияющими чёрными провалами выгоревших окон. По грудам битого кирпича, гнутой ржавой арматуры, звонким осколкам стекла, по россыпям стреляных, потускневших под дождями гильз носились стаи одичалых собак с бесновато мерцающими глазами. Они пожирали трупы.
Снова накатывался грохот ожесточённого смертного боя. Отрывистые крики солдат, забористая матерщина вперемешку с очередями.
Опять чеченцы. Но он уже не в Грозном и не среди развалин. Он вдавливает, вжимает своё тело в узенькую неглубокую расщелину на крутом склоне горы и пытается поймать в прицел боевика, бьющего короткими очередями из-за каменного выступа метрах в ста ниже по склону.
Пули его ложатся кучно, рядом. Он слышит их прямо над собой. Станислав, глухо рыча сквозь стиснутые до боли зубы, ещё плотнее жмётся к холодному камню, стремясь врасти в него.
Автомат чеченца внезапно смолкает. Патроны закончились? Солдат приподнимает голову. Ровно настолько, чтобы каким-то краешком, уголком глаза зацепить врага. Тот скрылся за выступом. Наверное, действительно меняет рожок.
Но вот снова мелькает темнобородое лицо в вязаной шапке, и из-за каменного выступа начинает выползать, нацеливаясь в его строну чёрным округлым нутром, труба «Мухи». Сейчас тот выстрелит, и граната разорвёт Станислава в клочья. Почти машинально солдат вскидывает оружие. Кажется, руки движутся ужасно медленно. Лениво. Словно в замедленной съёмке.
Чеченец высовывается из-за выступа сильнее, и его голова теперь идеально ложится на мушку. Он держит «Муху» обеими руками, оперев на правое плечо. Станислав успевает выстрелить первым. Бьёт короткая очередь. Приклад резко отдаёт в натёртое, мозолистое плечо.
Из головы чеченца вырываются густые красные брызги. Он неловко взмахивает руками и валится на спину. Его тело долго кувыркается вниз по склону горы, пока не застревает в кустах. Так и не успевший пустить гранату РПГ-18 катиться следом. Автомат боевика остаётся лежать на траве и его ствол мерцает на утреннем солнце.
«Третий, — считает солдат. — Третьего чеха завалил». И, спрятавшись за камень, он отирает рукавом взмокший лоб.
И снова всё плывёт и кружится, потом меркнет, погружается во тьму.
Опять Станислав видит родное село, ветхое здание школы, измождённые, морщинистые лица родителей. В нос бьёт крепкий запах хлева, дров, варёной картошки. Лес — поле — опять лес.
Снова война. Снова он бежит и стреляет. Горы, аулы, лица чеченцев, грозящих кулаками танковым колоннам, снова руины Грозного.
Затишье. Боя нет. Тепло. Даже жарко. Печёт летнее солнце. В разрушенном городе деловито снуют люди. Уцелевшие дома. Подвалы. Мелькают вульгарно размалёванные лица чеченских проституток, предлагающих себя за автоматные рожки, гранаты, выстрелы от гранатомётов. Солдаты понимают, что всё это будет стрелять в них же, быть может, даже этой ночью, но ничем иным расплатиться всё равно не могут — денег у них нет. Проститутки хохочут гортанными голосами, подмигивают и матерятся.
Потом всё мешается, путается. Развалины вырастают посреди поля за его родным селом, густой лес превращается в горы, по которым петляет узкая серпантинная дорога. По ней ползёт колонна танков и БТРов с сидящими на броне напряжёнными солдатами. Где-то в голубой чистой выси стрекочет лопастями вертолёт, похожий на большую чёрную стрекозу.
И опять он летит куда-то стремглав, быстро, с пронзительным свистом, острой болью отдающимся в висках. Видения тают, бледнеют, стираются.
Он лежит неподвижно, закрыв глаза, и дышит тяжело.
Придя в себя, Станислав упёрся мутным взглядом в склонившегося над ним Николая. Тот внимательно глядел ему в лицо, похлопывал по щекам и говорил, обращаясь к кому-то:
— Живой, отвечаю. Даже глаза открыл.
С минуту солдат смотрел молча, едва соображая, облизывая вспухшие, покрытые засохшей коркой губы. Затем в мозгу вспыхнула сцена во дворе, когда этот долговязый, трясясь от страха, уже расстёгивал перед чеченцами штаны.