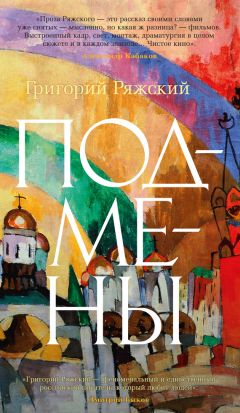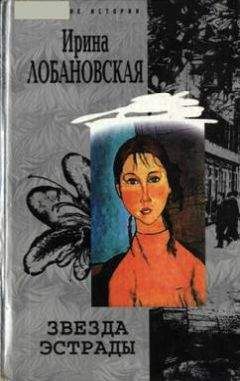– Она же никто, ты пойми, Лёвонька, она пустое место, лимитчица детдомовская и больше ничего, кроме журавлиных этих оконечностей да очей навыкате. Она ж в семью рвётся всеми путями, в прописку, в пристройство. Ни кола, ни двора, ни ума! И ни грамотности, наверно. Про честность девичью даже и не говорю: с общаги же сама, откуда любой порядочности взяться – одна низость да надувательство сплошное.
– Она, мама, готовится во ВГИК, на актёрский, – на удивление спокойно реагировал Лёка на выпады родни по прямой женской линии, – у неё превосходные данные, поверь. Она чрезвычайно чувственна, у неё замечательно гибкая психика и явные актёрские задатки. Попроси – заплачет, скажи «засмейся» – расхохочется, и никогда не поверишь, что неискренне. Из неё со временем получится великолепная актриса, и я её буду снимать, мы с ней так решили.
– Во-во! – с энтузиазмом вмешалась Анастасия Григорьевна, готовая к броску уже от собственной линии атаки. – То-то и оно, что безыскренняя, вся целиком, от трусов с перемычкой этой в заднице до коленок бесстыдных, неприкрытых. Ходит, как голожопая, аж смотреть противно. Они только одного и страшатся теперь, бесприданницы чёртовы, чтоб, не дай бог, бикини эти через ихние же юбочки не заметили. Вот и режут их до самого, не приведи господи, срамного позорища. А ты, вот увидишь, сразу же и заглотнёшь, как только твоя Катенька одно на себя натянет, а другое нацепит. И кончился ты, чистая душа, как и не был.
– Ты пойми нас, сыночка, – не унималась и Вера Андреевна, – мы же с бабушкой одного только добра тебе и хотим, а больше ничего. Мы же тебе самому только недавно сопли перестали вытирать, ты же не знаешь даже, как чай заварить, вечно не в курсе, где носки твои лежат; хорошо ещё ботинки на правый-левый сам разбираешь, без помощи. Ну какое там жениться, зачем оно тебе, для чего?! – Она прикрыла лицо руками, но тут же вновь убрала ладони. – Ну хорошо, допустим, если уж такой у вас нетерпёж, то погодите хотя бы до того, как диплом получишь, просто так меж собой дружитесь, без регистрации. И чувства заодно проверите, и глупость никакую не сотворите.
– А отец узнает, так вообще убьёт! – снова вмешалась в разговор Анастасия Григорьевна, не выдержав молчаливой непокорности внука. – К тому же сердце у него нездоровое, сам знаешь. Скажешь ему – ещё неизвестно, как дело окончится, кто на тот свет скорей отправится, я или Моисей. Сама-то я кое-как ещё держусь, только ради семьи, а уж он – не знаю, не уверена, сдюжит такое или же сразу удар случится. И всё, остались без кормильца и отца. Ты разве такого для нас хочешь, Лёканька?
– Как же он меня в таком случае убьёт, бабушка? – невозмутимо улыбнулся внук. – Ты уж выбрала бы какую-нибудь одну версию из двух – или убьёт, или «окончится», как сама же говоришь.
Слова бабушкины были ложью. Совершенной и во всём. Более того, Анастасия Григорьевна не могла не сознавать того, что аргумент про «убьёт» идиотичен и сам по себе, и невозможен в принципе, даже в близком допущении. Задним умом прикидывала, конечно, что Лёка, кроме как выказать искреннее удивление, никак на него не прореагирует. Однако удержаться в рамках тоже не сумела: оно будто само наружу вытолкнулось, как дань вековой народной традиции пугать родителем дитё. Это было сильней сильного. То был не поддавшийся разуму протест княжьей внутренности против самовластия родного внука. Именно на том стоял народ до неё, наследной княгини Грузиновой, и это она надёжно знала. Над тем, что станется с её народом дальше, княгиня покамест не заморачивалась: надо было успеть к моменту верного перехвата внука во время его полёта в яму, куда тот уже, считай, падал, не ища себе рыхлого дна.
Насчёт больного сердца Моисея Наумовича тоже как-то не сходилось. Само по себе оно имелось, но жидкость перекачивало не хуже прочих, не имея ко времени этой первой, по большому счёту, семейной нестыковки замеченных сбоев. Правда, на такой случай у Анастасии Грузиновой всегда имелся запасной аэродром в виде молча опущенных глаз, чаще – скорбно, и сопутствующего такому опусканию неподъёмно тяжёлого вздоха. Всё! Отсюда следовал намёк на нечто известное лишь ей одной, что и стало причиной невольного высказывания.
Лёка, услышав про отцовское слабое сердце, сперва чуть напрягся, но решил всё же не проявлять излишней податливости. Будет нужно, напрямую спросит у отца. Бабушка ведь в смысле любой правды продукт скоропортящийся: это он успел понять про неё ещё во время жизни в одном с ней, тогда ещё не разделённом пространстве. Поначалу, не слишком владея анализом причинно-следственных связей, Лёка ловил её на мелочах, какие баба Настя вообще не принимала во внимание, вполне обходясь лёгким скольжением по удобной для жизни поверхности полуправды. Затем, когда вдруг резко поумнел и, окончательно сломав голос, перешёл в разряд юных поисковиков, Лёка порой засекал нестыковки и покрупней, нежели эта бесконечная пустяковая малость типа «одна я тебя от них только и защищаю» или «что б ты делал, скажи на милость, если б бабушка твоя тайно не вмешалась». В основном то касалось прошлого, про которое, так или иначе, проговаривались обе они: то мама, то баба Настя. Узналось таким образом и про некоего большого директора, какой о бабушке втайне от супруги заботился в её когдатошнем воркутинском отдалении. Какой-то второй секретарь поприсутствовал ещё в случайной бабулиной оговорке, из которой Лёка догадался, что тамошние бабушкины успехи, о которых время от времени упоминалось за семейным столом, тоже не с терриконика свалились. И теперь уже были они вполне объяснимы, как законный результат чьей-то прямой опеки.
Случались и другие оговорки, и не раз. Однако из той его жизни, оставшейся за бортом редких воспоминаний, да и то лишь о самом памятном, вроде давным-давно случившегося Карадага или нечасто выпадавшего, но крайне полезного разговора с умным отцом, немного чего осталось для выявления им искомых сущностей. Всё это мало теперь интересовало Лёку. У него была цель, и он к ней правильно стремился. Остальное – пустая порода, отвал, из которого и насыпаются те самые никому не нужные терриконики. В другой же, нынешней жизни всё более и более важным словом становилось для него отцовское, несмотря на не слишком тесное общение их внутри каляевских стен. Если так уж глянуть, то и поговорить-то толком было негде. Оба, начиная любой разговор, невольно вздрагивали, когда в прикрытую в спальный кабинет дверь внезапно с тем или иным пустяком вламывалась мама, подозрительно кося глазом сразу на обоих. Или посредством быстрого двойного стука внезапно уже по эту сторону двери возникала Анастасия Григорьевна, и тоже с пустым, будто нарочно придуманным вопросом ни про что – за тем, наверно, чтобы на всякий случай надломить и так хрупкое общение домашних мужчин. Может, оттого, что один ходил в любимчиках, а другой всё так же продолжал существовать в глухой, чужеватой ей непонятке – то ли по уму, то ли по отторжению кровью крови, а возможно, и по всему сразу?
Про сердце Лёка поинтересовался у отца тем же вечером, когда, окончательно уже измотанный очередной вербовкой родни против Кати, он заглянул к Моисею Наумовичу, выбрав наиболее верный получасовой промежуток.
– А что у меня с сердцем, Лёк? – самым неподдельным образом удивился Дворкин вопросу сына. – Слава богу, не жалуюсь. А в чём дело-то вообще, скажи?
После такой реакции отца баба-Настин парашют успешно лопнул, тем самым сняв одну проблему из двух. И Лёка перешёл к делу. Верней, к его завершающей фазе. Прошлый их разговор, о каком не знали Вера Андреевна и бабушка, уже состоялся. В результате о Кате Моисей Наумович узнал первым, задолго до обеих. Тогда он сказал ему «да», убедившись, что чувство у сына настоящее.
– Надеюсь, Катя испытывает к тебе то же самое, – добавил он после короткой паузы. – Знаю, что станут говорить тебе… они… – Он неопределённо мотнул головой в сторону двери. – Вразнобой, но про одно и то же, так что ты готовься. Скажу сразу, я займу позицию нейтралитета, не хочу ещё одной войны, мне работать надо, а не стороны примирять. Я их всё равно не одолею, с ними аргументы не работают, у мамы с твоей бабушкой несколько иное устройство основного человеческого вещества, и это уже, боюсь, беда на молекулярном уровне. Тут же нужна обыкновенная твёрдость. Мужская. Твоя. Потом, думаю, всё утрясётся. И даст бог, заживём совсем мирно: трое нас – против них двоих. В общем, если в сумме, то на то и получается, если только не аннигиляция.
– Чего? – не понял Лёка.
– Я говорю, если вдруг не сделается так, что проблема отпадёт сама собой. Не знаю как, но разрешится в любую сторону из возможных. В высшей и прикладной математике, так же как и в механике, это называется бифуркацией. Да хоть и в философии. Есть ещё и точка бифуркации: это, если простыми словами, смена установившегося режима работы системы. Относится к неравновесной термодинамике и синергетике. А есть такая же точка, но лишь по названию. Но уже из теории самоорганизации, то бишь хаоса. А по сути – это критическое состояние системы, при котором она становится неустойчивой, и возникает некая неопределённость, станет ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, высокий уровень упорядоченности. Впрочем, то отдельный разговор, до которого мы с тобой, скорей всего, никогда не доберёмся.