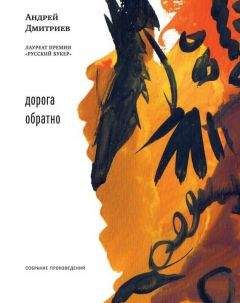Он шел и шел, мотая больной головой, слабея коленями, пытаясь усиленным дыханием совладать с тошнотой. На Архангельской его окликнул кто-то неузнанный, спросил:
— Никак побили?
— Смешно, — не останавливаясь и не приглядываясь, отозвался майор. — Ты представляешь, чуть не угорел!
Он вошел в подъезд и отпер дверь своим ключом. В прихожей и комнате было чисто и пусто. Постанывая, заглянул на кухню. Увидел Галину у плиты. Незнакомый мужик в клеенчатой куртке и кружевном переднике заулыбался, стряхнул с рук налипший фарш, развел руками и сказал:
— А мы вас не ждали… Но я вас жду.
…Зоев вышел из вагона, подхватил под мышку необременительный портфель и, подсвистывая плывущим из репродуктора знаменитым аккордам Глиэра, шагнул навстречу излюбленным своим удовольствиям. Первое из них наступало сразу по пересечении Лиговки и было роскошно протянуто во времени и пространстве. Его можно было и самому растянуть, например, замедляя шаг, но сократить и скомкать его не в силах был никто, потому что никто не в силах укоротить Невский проспект, сморщить Дворцовую площадь, сузить Неву. Зоев со вкусом прошел весь путь, узнавая и приветствуя в пути каждый фасад, каждый гранитный горб, каждый чугунный изгиб, обжигаясь горячим кофе сперва в «Сайгоне», потом в кафе на площади Искусств. Выйдя на Неву, он не удержался и, разрываемый счастьем простора, вновь засвистел, потом замычал и, наконец, запел в голос густого вальяжного Глиэра. Он шел и пел, скосив глаза направо, оглаживая любовным взором контуры Петропавловской крепости, шпиль которой, съеденный морозным туманом, изредка вспыхивал искрой сквозь туман. Постояв у колоннады биржи, Зоев нетерпеливо направился к изношенному желтому особняку. Программа конференции лежала, смятая, в кармане. Заявленные в ней доклады в большинстве своем обещали удовольствие сами по себе, те же, что были заведомо скучны и глупы, обещали охотничью радость прений. Собственное выступление Зоева не тревожило. Зоев слишком хорошо знал почти всех, кто был приглашен, и если чего опасался, так это заурядности удовольствия, обыкновенности похвал, — похвал хотелось необыкновенных… Конференция в Пушкинском доме должна была продлиться два дня, на третий была назначена лекция Зоева в университете, на четвертый кончался год. Ни одно из предстоящих в Ленинграде удовольствий не лелеяло так воображение Зоева, как встреча Нового года у Поморникова, — слишком давно не проводили они новогоднюю ночь за одним столом.
Они уселись рядышком в заднем ряду и весь день писали друг другу записки в одном блокноте. Пиджак Поморникова пропах трубочным табаком, и, вдыхая этот запах, плечом чувствуя тепло дружеского плеча, Зоев понимал, что не ради прений и похвал приехал он в Ленинград, но ради этого тепла, ради этого хорошего запаха… Вечером он отправился к Поморникову на квартиру. Глядя из окна на черный лед канала Грибоедова, они пили водку, поминали умерших и замужних подруг, легко и незлобно злословили, потом пили коньяк, рассуждали о бахтинском буме, отчетливо пометившем собой уходящее десятилетие, легли спать под утро, проснулись тяжелые и, насилу опохмелившись, опоздали к первому докладу.
Их выступления пришлись под занавес конференции. Поморников ограничился коротким сообщением о неизвестном письме Гоголя Данилевскому, в котором непорочный Гоголь представал пожалуй что порочным. Сообщение всех взволновало. Доклад Зоева шел следом. Зоев говорил, что читающее человечество склонно к неадекватному прочтению литературного произведения. Оно создает свой миф произведения, тождественный мифам своего ущербного сознания. Сам феномен классики, говорил Зоев, есть не что иное, как торжество неадекватного прочтения. Ни одно произведение не используется столь беззастенчиво для обслуживания мифов, как названное классическим. Ни одно произведение не отчуждено столь разительно от себя самого, как возведенное в сан классического. И это — несчастье, ведь речь идет о самых талантливых произведениях. «Усаживаясь за стол культуры, — говорил Зоев, — людская благоглупость, именуемая мифологическим сознанием, первым делом пожирает лучшие куски…» Пример чеховской «Чайки», приведенный Зоевым в числе многих, прозвучал особенно горько.
…Пьеса неизменно трактуется так, как того требует публика, остро переживающая свою несостоятельность и хорошо усвоившая, кто в этой несостоятельности виноват. Виноваты, конечно же, пресыщенные консервативные середняки, подмявшие под себя все живое. Гениальный Треплев и талантливая Заречная рвутся к самовыражению и славе — их не дарят вниманием, высмеивают, душат нищетой, убивают нелюбовью… Таков миф, но не таков текст. В тексте — не на театре, не в воображении читателей, а в комедии «Чайка» — Треплев и Заречная представлены людьми совершенно бездарными. Чехов, кажется, сделал все, чтобы на сей счет не оставалось никаких сомнений. Чего стоит один только фрагмент из творения Треплева — все эти львы, орлы и куропатки, все эти тысячи веков и болотные огни в придачу!.. Зоев напомнил, что своего отношения к декадентам Чехов не скрывал никогда. Он попросту отказывал их творениям в праве называться литературой, не находя в них ничего, кроме безвкусицы. Даже подобия их стиля, даже отдаленные отзвуки их тона вызывали у Чехова нескрываемое раздражение: так, безобидное «море смеялось» вывело его из себя. Можно лишь представить, как сводило у Чехова скулы, когда он записывал треплевское: «Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно». Правда, не исключено, что скулы Чехова сводило от смеха, и он не столько влезал в шкуру графомана, сколько пародировал его… Слово Треплева рождено мертвеньким. Его не в силах разогреть приправа из спирта и серы. Даже живой голос Заречной не в силах его спасти. Столь очевидная мысль, что никакие новые формы не в состоянии оформить пустоту, приходит к Треплеву лишь под занавес. Ему хватает мужества признать свое ничтожество, но не хватает мужества жить. Заречная остается жить, полагаясь на веру и терпение — больше ей не на что полагаться… По-настоящему талантливы Аркадина и Тригорин. И Чехов, кажется, делает все, чтобы не оставалось никаких сомнений на этот счет. Чего стоит один лишь пример с осколком бутылочного стекла! Дутое дарование не могло долго пользоваться успехом на тогдашнем театре — оглушительный успех сопровождал Аркадину всю жизнь… Поведение Треплева бездарно, как и его писания. Оно искусственно, многозначительно, безвкусно. Достаточно вспомнить аморфно-символическое убийство чайки или фальшивое первое самоубийство. Зато Тригорин со своими голавлями, со своей неряшливой влюбленностью абсолютно естествен. Естественна и Аркадина со всей своей скаредностью и ревностью… Треплев и Заречная совершенно бездарны, но милы. Тригорин и Аркадина талантливы, но распущенны и безответственны. Важно, что Чехов пытается сочувствовать первым.
В эпоху, когда человек, написавший «море смеялось», отрастил себе характерные моржовые усы а lа Ницше, когда слова «гений» и «сверхчеловек» надолго зарядили воздух чрезмерностью, Чехов предъявил публике комедию, в которой открыто провозгласил свою любовь к слабым и бездарным, однако же безобидным людям. И посетовал по поводу того, что в талантливых людях не все прекрасно… Публика спорить с ним не стала, она попросту перетолковала «Чайку» на свой лад. Вот и бродит по мировым подмосткам Треплев с осанкой маркиза Позы, проницательностью Гамлета, язвительностью Чацкого, ранимостью Лермонтова — тоже, кстати, перетолкованных.
Это был пример один из многих. Литература безадресна, утверждал Зоев. Адресат и не намерен читать послание… Он переиначивает его себе на потребу и затем использует как улику, компрометирующую миропорядок, или как оправдание своих комплексов и своей морали, как подтверждение своих мифов… Зоев заключил свой доклад историческим анекдотом. Однажды римляне заказали грекам большую партию павлинов. Греки прислали павлинов. Через короткое время последовал заказ на новую партию павлинов. Греки удивились: зачем Риму столько павлинов? Оказалось, римляне подают павлинов к столу. «Вы понимаете, они их ели!» — сказал Зоев, перевел дыхание и закончил доклад словами: «Читающий мир — это Рим, пожирающий павлинов».
Зоев ослабел, но оставался возбужденным. Ему нужен был перерыв, чтобы отдышаться, успокоиться и по возможности отрешиться от своего выступления. Но прения начались без перерыва. Первым выступил Поморников, и Зоев, слушая его, не верил собственным ушам. Поморников дружески сетовал. Сокрушался, что в докладе много общих рассуждений, но мало строгой науки. Печалился, что дорогой коллега исповедует московский стиль, то есть пренебрегает академической достоверностью во имя броских умозаключений, построенных на шатких аргументах… Зоев был ошеломлен. Поморников не только отказал ему в поддержке, но даже не стал спорить. Он попросту пренебрег докладом, отказал ему в праве на существование и, как молча и мрачно сострил Зоев, повел себя, как Аркадина на представлении треплевской пьесы… Поморников сгладил свое выступление словами приязни, однако же успел задать тон. Все оживились. Лунев сказал, что доклад есть сумма банальностей. Крохалев заметил: «Коллега Зоев довольно живо обрисовал, как литература преломляется в мифологическом сознании, но не захотел объяснить нам, что есть литература сама по себе, вне истолкований. В конце концов, все, сказанное им о „Чайке“, — тоже истолкование». Пальчина заявила: «Многовековой навык восприятия литературы, тысячи лет ее бытования поставлены под сомнение, зато сугубо зоевская трактовка „Чайки“ преподносится нам, как образчик истины». «Да, да, да — трактовка в духе школярского „анализа литературного произведения“», — добавил Смертин с места. Крачкин обиженно спросил: «Чем вам, Зоев, не угодило мифологическое сознание? В век Манна, Маркеса, Булгакова, Айтматова и Распутина это по меньшей мере странно…» Томлеев-Пророков выказал неудовольствие выражением «на театре», находя его манерным. Аспирантка из Чимкента горячо заступилась за Нину Заречную: «Нина была очень, очень талантлива, но ее погубил Треплев своей бездарной эстетикой, ее погубил Тригорин, потому что предал ее любовь!». Председательствующий Просвирин напомнил, что понятия «талант», «бездарность» и «любовь» пребывают вне науки и обсуждению как бы не подлежат. «Но поскольку, — сказал Просвирин, — обсудить их за рюмкой водки никому не возбраняется, я объявляю конференцию закрытой». Он встал и виновато улыбнулся Зоеву.