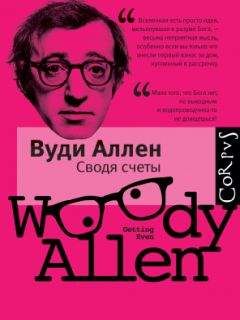— Вы живете старыми понятиями, — тонко улыбнулся секретарь…
— Я говорил, — кричал Харт, — надо слушать старого мудрого Харта, педерасты проклятые! Пишите: «Эта стерва-законспирированный сионист…» Да не вы, ваш почерк уже знаком…
Харт спас Виля. Но вакантное место оставалось открытым. Партия продолжала поиск и напала наконец на след Пельмана. Ему дружески предложили состряпать анонимку: «Этот отброс является…»
— Я анонимок не пишу! — гордо заявил Пельман и вступил в партию…
На этом опыт Виля по созданию произведений о самом себе обрывается…
А дни текли, время защиты неотвратимо приближалось — он решил обратиться к монографиям, посвященным его творчеству. Раньше он их всячески избегал, не читал даже критических статей о себе. И вот сейчас Виль несколько неожиданно для себя обнаружил, что о нем написано семь докторских диссертаций — а он должен был защищать по себе какой-то несчастный диплом!
Перед ним высилось две приличных стопки. Виль просмотрел одну работу, потом другую… То, что он узнал о себе, привело его в ужас. Оказалось, что он является прямым продолжателем великого финского писателя Тойменена, которого Виль не только не читал, но о котором и не слышал — а его корни уходили прямо в этого сына Суоми. На его творчество оказали решающее влияние еще три выдающихся писателя, один из которых в младенческие годы был вывезен работорговцами из родной Африки в Америку. Их фамилии Виль так и не смог прочитать.
Выяснилось, что в его творчестве было три периода — голубой, пищевой и мавританский. С двумя последними все было относительно ясно, и он углубился в одну из монографий, чтобы узнать подробнее о первом этапе своей литературной деятельности. К нему, как оказалось, относилась его сожженная сказка, несколько рассказов отца и почему-то афоризм Качинского «Сколько промахов — и все в цель». Причем явное влияние великого финна особенно ощущалось в рассказах отца. Получалось, что и отец уходил корнями в Суоми…
Некоторые исследователи обнаружили в Виле явные черты сексуального маньяка — ни в одном из его произведений не было хотя бы одной эротической сценки. Следовательно — почти единодушно считали исследователи — это он таил в себе. Не встречались в его книгах и педерасты — поэтому в нем была обнаружена скрытая склонность к гомосексуализму с мазохистским уклоном. Виль вспомнил анонимку — и ему показалось, что будущие доктора наук читали ее…
Виль забросил монографии, статьи, диссертации — и попробовал сочинить что-то сам.
Он создал творческую атмосферу — приготовил душистый кофе, положил на стол стопку глянцевой бумаги, зачем-то помыл хвойным мылом голову, включил Рахманинова, осветил лист мягким светом — и задумался.
Виль решил начать издалека.
«Еще Плавий,» — вывел он и отложил ручку.
«А что — Плавий? Что — «еще»? — подумал он и взял новый лист.
«Еще Аристофан».
«А что Аристофан? Что Аристофану до меня и что мне до Аристофана?»
Виль решил начать просто, без выпендрона.
«Писатель Виль Медведь является…».
Он встал, начал нервно ходить по комнате, вспоминать, кем он является, разбил вазу, выпил пять чашек кофе — но так и не вспомнил. В голову почему-то лезла частушка: «Возле кузницы тропа, девки трахнули попа…»
Ему вдруг нестерпимо захотелось чего-то теплого, родного, из детства. И на всей этой земле было одно лицо, к которому он хотел прижаться — лицо «панцирь официра».
* * *
Когда самолет приземлился в Тель-Авивском аэропорту, и Виль вышел на трап, под иудейское небо, его глазам открылась фантасмагорическая картина, смахивающая на мираж в безводной пустыне — на летном поле, под левым крылом стоял небольшой взвод пожилых вояк, в кителях, галифе, фуражках, до ног увешанных советскими боевыми орденами.
Виль различал ордена Ленина, «Славы», «Победы», медали за «Победу над Германией», «За взятие Берлина», «Будапешта», «Праги». Доносились обрывки фраз: «Помнишь — в 43-ем, под Сталинградом», «Когда Жуков мне сказал», «Отбомбив Берлин, я возвращался»…
Виль похолодел. Он рванулся назад, к дверям, но здесь его заметили, дирижер махнул палочкой, и вояки задули в медные трубы:
— Броня крепка и танки наши быстры! — затянул кто-то зычным голосом.
Виль колотил в уже закрытую дверь.
— И наши люди мужеством полны! — гремела медь.
Виль влетел в брюхо самолета, он был бледен, он задыхался.
— Вам плохо? — спросила стюардесса.
— Куда мы прилетели, мадмуазель? В Москву?
— Что с вами? — она протянула ему воду.
— Взгляните, кто там, и послушайте, что они поют!
— Мсье, мы в Тель-Авиве, — она нежно сжимала ему руку, — идите, я вам помогу.
— Нет, нет, умоляю вас, — до него доносились новые мелодии: «Марш танкистов» сменялся «Маршем артиллеристов», а тот — «Маршем энтузиастов».
— Москва, — повторял он, — самолет сбился с курса! Зачем вы меня обманываете?
— Мсье, мы в Израиле. Я прошу вас покинуть борт самолета, мсье!
— Пригласите представителя Красного Креста!
— У меня нет времени, — умоляла стюардесса, — через час рейс на Стокгольм.
— Я полечу с вами — Стокгольм — мечта детства! Я заплачу!.. Разрешите! Куда угодно! Сирия, Ирак, к Муамару Кадаффи, только не в Москву.
«Этот день победы, — неслось снаружи, — порохом пропах!»
В дверях самолета появился взлохмаченный дядька.
— Виллюша, — озарился он, — куда ты делся? Мы уже все марши сыграли.
Он сгреб племянника и прижал его к своему огромному животу.
— Роднуша!
Затем он обнял за плечи и вывел на трап. Солнце слепило. Вояки, собрав последние силы, заиграли «Атикву». У Виля отлегло от сердца. Они спустились с трапа, и дядька начал представлять орденоносцев.
— Полковник Шапиро, — Западный фронт, майор Кац — Таманская дивизия, капитан Леви — Кантемировская дивизия, Нора Шнеер — дочь полка. Все отдавали честь, щелкали каблуками.
— В каком дивизионе служили? — спросил Кац.
— Я был еще молод, — извинялся Виль, — мальчик.
— Сын полка? — спросила «дочка». — Какого?
— Ветераны, — попросил дядька, — отвяжитесь от племянника. Он писал, а не служил. Владеть ручкой так же непросто, как тяжелым танком.
Затем он скомандовав:
— Смирно! Равнение на Сион. Товарищи офицеры! Поздравляю вас с великим праздником «Пейсах»! Желаю успехов в работе и счастья в личной жизни. Шана Това!
— Рашона хабо Иерушалаим, — пронеслось по рядам, — ур-ра!
— Как тебе нравится мое общество «Танк», — говорил дядя, когда они ехали в машине. — Понимаешь, я приехал, уже не мальчик, дела не открыть, сколько можно лежать под апельсином? Я собрал по всему Эрэцу, включая Иудею и Самарию, наших бывших танковых офицеров, организовал их в общество и руковожу. Пишем книгу воспоминаний «Еврей в танке». Дам отредактировать. Невероятно интересно, скажу тебе.
Они мчались в сумерках, все было в желтом свете фонарей и пряно пахло молодыми апельсинами.
— От этих запахов я пьянею, — говорил дядька, — я здесь пьянею от всего — от песен, людей, колодезной водицы. Из моего окна видно море, и знаешь, что я тебе скажу — жаль, что я не был морским офицером…
— Ты не изменился, дядька, — сказал Виль.
— Неправда! Я помолодел. Зачем ты говоришь гадости?
Они подъехали к серому четырехэтажному дому. На балконе, в желтом свете, стоял толстый человек, в синих трусах, в майке, и делал зарядку.
— Ахтунг! — предупредил дядька, — Фимка Косой, ахтунг! Ахтунг!..
Фимке Косому в Израиле не хватало мордобоя. Натура человека загадочна — можно скучать и по драке. Косой возмущался с балкона:
— Что это за страна, где никто не даст по харе?! Чего ты сюда притащился, шрайбер? Жара, пыль, винный завод — и тот дрековский! Когда они выливают вино — у меня болит сердце! В России их бы за это убили. Я хотел им помочь, улучшить процессы, технологию — не желают.
— Шрай ныт! — попросил дядька, — человек с дороги.
— Курвы, — продолжал как ни в чем не бывало Фимка, — они мне сказали, что здесь — не разбавляют! А сколько я хотел разбавить?…
Дом стоял вблизи винзавода, Косой смотрел на багровые струи «Каберне», текущие по панели, и презирал Израиль.
— Балбес! — сказал дядька, — таких надо выселять в Россию…
Затем он покормил Виля и пошел показывать город.
— 60 тысяч человек, — говорил он, — но каких! Мэр — «а менч»! Где ты видел такого мэра. Исключительный. Теперь взгляни на дорогу. Недавно закончили. Каждый метр — апельсин, каждые два — лимон! Летишь, как в самолете. Исключительная!
— На ней можно сломать шею!
— На этой? — удивился дядька. — Здесь вообще нет аварий! Сейчас мы проходим мимо кортов — слева зеленел бурьян, — исключительные! Ты бы видел, как отскакивает мяч — выше, чем в Уимблдоне! А какие у нас игроки — Ицек, Фрум, не слышал? Услышишь! И подними голову — самый высокий тополь!