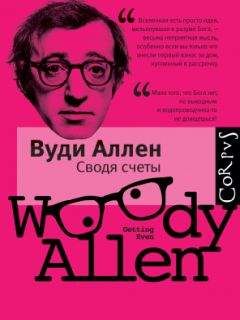В то страшное время Виль встретил его на Невском, в сером пальто, с серым батоном. Он хотел поздороваться с ним, но Зощенко отвернулся.
Виль подбежал к нему.
— Почему, Михаил Михайлович?
Зощенко мягко улыбнулся:
— Помогаю не здороваться…
— Глыба, как его называл Мандельштам, — продолжала фрекен, — семантические парадигмы которого…
Виль встал и вышел.
— … сделали из него мастера окказионализма, — неслось вслед.
В ближайшем кафе, полном, как всегда, старух, он заказал литр водки.
Старухи открыли рот.
— Prosit, мэдэм! — он опрокинул бокал.
За окном шел весенний дождь, теплый и прозрачный, как тополь в ноябре. Виль думал о Зощенко, о смехе, о себе, о вселенском абсурде, смотрел на дождь и понял, что теряет единственное, что осталось — юмор.
— Гарсон! — позвал он.
Подбежал очень чистый официант, очень предусмотрительный.
— Шнапс?
— Гарсон, — сказал Виль, — вам не кажется, что лучше потерять голову, чем юмор?
— Мсье, — философски заметил гарсон, — лучше найти, чем потерять…
Когда Виль вернулся, фрекен Бок уже перешла от теории к практическим занятиям.
— А вот вам пример симантической дупликации, — она взяла свой конспект: «А баба эта — совсем глупая дура!» В чем комизм, юмор? Думайте, думайте, обратитесь к интеллекту, к эмоциональной сфере.
Все обращались, но ответа не находили.
— Я вас предупреждала, — голос фрекен был сладок, — языковой юмор спрятан, глубинен, скрыт. Объясняю: дура — это уже глупая, а глупая — это уже дура. Поэтому «Глупая дура» быть не может.
«Может, может», — подумал Виль.
— Поэтому это и смешно!
— Скорее грустно, — промолвил Виль.
— Для тех, у кого нет чувства юмора, — терпеливо пояснила фрекен. — А теперь сами приведите пример семантической редупликации.
Виль вскинул руку.
— Кретинская кретинка, — сказал он ей в глаза.
— Хорошо. Еще.
— Идиотская идиотка, — ему стало легко.
— Отлично!
— Сучья сука! Алигофренская алигофренка, — у него выросли крылья, он прямо влюбился в эту семантическую редупликацию, — имбесильная имбесилка!
— Великолепно, — фрекен была довольна, — вы начинаете кое-что ухватывать!
— И старая кизда! — закончил он.
— Э, н-нет, — она подняла пальчик, — осторожно! Это уже не редупликация! Это, простите малопропическая подмена: купол-кумпол, зря-здря!
Но Виль был влюблен и в малопропическую…
Воодушевленная его старанием и успехами фрекен вскоре предложила Вилю тему дипломной работы.
— Долго думала, Назым, — довольно сказала она, — специально для вас. Вот: «Приемы комического у Виля Медведя». Любимый автор сэра Затрапера.
Виль побелел.
— Прекрасный советский сатирик!
— К-какого века? — выдавил Виль.
— Нашего. Слыхали такого?!
— Н-нет.
— Вам предстоит радостная встреча. Повторите, Папандреу — Медведь!
— Ведмедь, — повторил Папандреу…
* * *
Писать про самого себя Вилю было невероятно сложно. Даже когда он писал письма маме — это было всегда три слова: «Все в порядке. Чувствую себя хорошо. Целую…» Но не напишешь же в дипломе: «У Медведя все в порядке. Чувствует себя хорошо. Целует…»
Его всегда раздражали авторы, ныряющие в свою душу, самокопатели с большими лопатами, вскакивающие утром, и, не всполоснув лица, бросающиеся к столу описывать свое состояние: «Большая, несколько асимметричная женская жопа часто маячила перед моим затуманенным взором. Я знал, откуда это — в три года, в женской бане…»
Он недолюбливал даже Достоевского. Конечно — Федор Михайлович — это вершина, но он любил гулять в долине, Виль Медведь…
Нет, нет, он не писал о себе — если быть честным, он сам себя не очень то и интересовал. За полвека он сам себе хорошо поднадоел — а писать о надоевшем человеке, тем более научную работу…
Хотя иногда он был вынужден писать о себе, например, характеристики. Чтобы поехать в Польшу или в Болгарию.
У ответственных лиц в России всегда наблюдается острая нехватка времени, и поэтому все пишут характеристики на себя…
«Виль Медведь, писатель, морально устойчив, политически выдержан. Рекомендуется для поездки в Польскую Народную Республику.» Но причем Польская Народная Республика и диплом? Даже Болгария не имела к нему никакого отношения…
Однажды Виль написал на себя анонимку. Дело было ужасное — партия вдруг заметила, что в ее стройных рядах нет сатириков. Подонков — сколько угодно, а сатириков — ни одного. Поговаривали, что этому вопросу было даже посвящено заседание Политбюро, где после вопроса «О дальнейшем повышении производства мяса» сразу шло «О принятии одного сатирика в партию».
Выбор остановили на Ленинградской партийном организации, а она — на Виле.
Виль долго скрывался. Он укатил в Палангу, спускался на батискафе на дно Черного моря, жил в тайге — но его обнаружили.
— Я не достоин, — отбивался он, — я не достоин!
— Партия лучше знает, — отвечали ему, — учите биографию Ленина.
Виль был убит наповал. Он еле доплелся до Мавританской гостиной.
— Оленя ранило стрелой, — печально произнес Глечик, увидев его, — что случилось?
Виль трагически молчал.
— Ты не болен, тебя не сбила машина, тебя не сажают, — констатировал Харт. — Произошло нечто более ужасное…
— Да, — подтвердил Виль, — намного…
Харт догадался сразу:
— Ты хотя бы сказал им, что ты не достоин? — спросил Харт. — Впрочем, о чем я спрашиваю. Партия лучше знает… Садись и пиши: — Этот подонок не достоин…
— Я им это уже говорил.
— Идиот, кто тебе поверит? Верят анонимкам… Если бы я не писал сам на себя анонимки — вы бы меня здесь видели… Я был бы членом с 1918-го пода, я бы кричал «Ура!» и ставил к стенке. На правом боку у меня бы болтался маузер, на левом — шашка… Пиши!
Харт начал диктовать. Он напоминал Персидского, а Виль — Фарбрендера — впервые в жизни он писал под чью-то диктовку.
— Этот отброс общества, — медленно диктовал Харт, — является внутренним эмигрантом и скрытым сионистом…
— Харт, — спросил Глечик, — вы думаете, что ему в тюрьме будет лучше, чем в партии? Возможно, вы правы, но лучше избавить его от того и от другого.
— Это ж надо! — возмутился Харт. — Меня учат писать анонимки на самого себя!
— Почему бы нет? Я тоже кое-что писал на себя… Уберите сиониста.
— И «внутреннего эмигранта», — добавил Качинский.
— Гоеше копф! — вскричал Харт. — А из-за чего его тогда не примут? Из-за подонка?
— Добавьте: «сволочь», «развратник», «ничтожество» наконец! — предложил Глечик.
— Послушайте, господа офицеры, — произнес Харт, — мы что пишем — коллективную рекомендацию, общественное ходатайство?
— Старик прав, — Персидский постучал по столу «Мальборо», — рекомендую добавить «шпионаж».
— Какой? — обалдел Харт.
— Я знаю… Какое это имеет значение — японский, иранский. Можно его сделать сразу двойным агентом… Или вам известны случаи, когда за шпионаж принимают в партию?
— Почему вы хотите расстрелять собрата? — спросил Харт. — И вообще, вы живете устаревшими понятиями. Сегодня шпионаж не в моде.
— А что сегодня в моде? — спросил Фарбрендер.
— Гомосексуализм, — с отвращением вставил Пузынин.
— Замечательно, — воскликнул Харт, — гомосексуализм значительно лучше скрытого сионизма, не говоря уже о шпионаже — за него не сажают, не расстреливают, не принимают в партию… Виль, вы не против того, чтобы стать гомосексуалистом?
— Что вы его спрашиваете, — воскликнул Глечик, — ради партии он станет импотентом.
Скоро Виля вызвали в верхи.
— Товарищ Медведь, — сказал ему секретарь, — тут на вас поступила анонимка.
Виль сделал печальное лицо.
— Так не берете? — спросил он.
— Наоборот! Мы боремся с анонимщиками — и достойным отпором им будет принятие вас в наши славные ряды! И потом — с чего это они вдруг решили, что мы не принимаем пидеров?
Секретарь обнял Виля — и было непонятно — являлось ли это партийным объятием или…
— Вы свободны сегодня вечером? А то мы могли бы провести закрытое заседание…
Виль отшатнулся.
— Зря вы так…, — мягко сказал секретарь и добавил, — вот если бы они написали, скажем…
— Что, что? — поинтересовался Виль, — что они должны были написать, эти сволочи?
— Н-ну, скажем… — секретарь задумался.
— Скрытый сионист? — подсказал Виль.
— Пожалуй… Это было бы неплохо…
— А разве за это не сажают? — уточнил Виль.
— Вы живете старыми понятиями, — тонко улыбнулся секретарь…
— Я говорил, — кричал Харт, — надо слушать старого мудрого Харта, педерасты проклятые! Пишите: «Эта стерва-законспирированный сионист…» Да не вы, ваш почерк уже знаком…