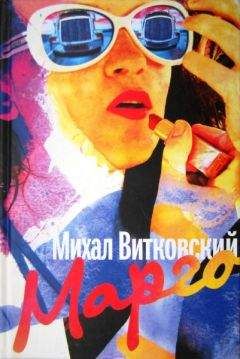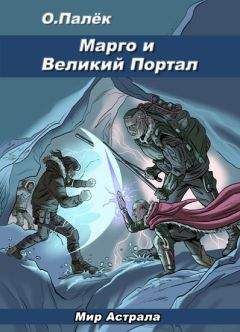Простые тексты о том, что жизнь прожить — не поле перейти, находят слушателей среди дальнобойщиков, которые честно отбывают свою девятку[131], так что все равно вынуждены тут сидеть. «Люблю Тебя, Отче», — поет Ася под гитару известную песню-молитву, и даже дегенераты, которые так жарят плечевых, что аж спальник трясется, что аж прицеп отваливается от башки[132], — и те поднимают к небу одухотворенные и масляные от пива глаза. А при этом очень культурно все обжираются колбасками с гриля на бумажных тарелочках, с горчицей и большой булкой, рулькой и пивом, потому что если девятку мотаешь, то первые три часа можно пить, за шесть оставшихся все выйдет. Снимают Асю (а заодно и греющуюся в лучах ее славы Грету) на мобильники, делают фильмики, потом все это появится на YouTube: «Ася среди дальнобойщиков, повесил Цыца, 15 июля 2010 года».
Тут меня эта прошмандовка замечает, на подиум просит, остальные в ладоши хлопают. А я объясняю Черной Грете, что она, будучи мелкой сошкой, не имеет морального права вести авторские вечера. А она на меня зенки вылупила. Я тогда кланяюсь вежливо направо, налево, и что… Стихов своих сказать не смею, самое большее, что могу себе позволить — сделать женщину-змею. Просим, просим! Пришлось мне вспомнить свои спортивные достижения, вывернуться наизнанку и завязаться узлом. Браво! А Грета тогда — подковы гнуть и, приободренная аплодисментами, спрашивает, нет ли желающих потягаться с ней на руках. Тогда и я осмелела и кое-что из моей поэзии и золотых мыслей (сама святая Ася меня попросила) представила. «Шайбу долой — едем домой» и другие произведения. Самые большие аплодисменты я сорвала у сундуков и мешков-пекаэсов. А Грета взялась тягаться на руках с голландцем и проиграла. (А не вчерашний ли это волосатик?) Ну конечно, куда ей! Это ж не человек — медведь. Поджала хвост. Подошла я к ней и об этой больной руке спросила. Ну и бросились мы друг другу в объятья! Конец споров, конец вечных раздоров! Это, наверное, самое большое чудо святой. Самое большое, но не единственное…
Тогда же принесли больное животное: чайку с перебитым крылом, завернутую в одеяло, а она очень из него вырывалась, но только оказалась в ближайшем окружении святой, успокоилась и просто-таки прильнула к ней.
Тогда на середину вышел водитель с кликухой Тот Что От Хромой. Типичный полячишка, в жизни не прочитал ни одной книжки, даже инструкции по обслуживанию домкрата. Любит попить пивка, когда можно, бутылочек этак с десять, любит покурить самые дешевые украинские сигареты, любит девочек потискать на спальнике, есть у него многочисленная семья под Пётрковом и дом он строит из пористого кирпича. Лысый, с заметным животиком, повышенная моторная возбудимость, в том числе повышенная возбудимость нижней челюсти, в результате чего он постоянно говорит и шутит. Но не сейчас. Потому что убили его Хромую. Хлопает, просит слова, а Грета всхлипывает в платочек, оплакивая покойную любовницу.
— Слышь, мужики! Ну я этого сукина сына, что Хромую уделал, достану, пусть он лучше на пароме не ночует, со мною на одной палубе, в одной каюте. Какая уж Хромая ни была, а такой смерти не заслужила. Хочу прочесть вам стих, то есть, поэтическое… ну это… произведение в память Хромой.
Я собственным глазам не поверила, потому что этот бомж, который в жизни ничего не читал, достает из кармана куртки помятый потребительский талон, расправляет его и читает нечто, начинающееся такими словами:
— Таскал волк овечек в лесок, но утащили и волка разок…
— Волк — это Хромая, — пояснил он театральным шепотом «в сторону», а Грета начала шепотом объяснять Асе, кто такая Хромая, но быстро выяснилось, что она и так лучше всех знает.
Ладно, думаю, не стану слушать я эту элегию в честь Хромой. Пора отправляться в ночь. Как это там ксендз говорил: «По-за леском, по-над озерком». Еще раз забираюсь на крышу и вижу, что от этой стоянки лесок и озерко на приличном отдалении. Вон они! Лагерь, где живут цыгане вообще и мой Дезидер в частности… беру кое-что из кабины, закрываю, иду. По противопаводковому валу, потом лугом, который оказывается топью, в которой я увязаю по щиколотки. Только после лугов начинается низкорослый лесок и подернутая рябью суровая гладь озера, укрытого за прибрежными зарослями, а около него не один, а, наверное, сто прицепов и бараков из рифленой жести. Носятся куры, мокнет постель на заборах. Шлепают по лужам дети, играют с собаками, воняет горящей пластмассой, горящими волосами, резиной, ногтями, кожей. Они жгут всё, что воняет и может гореть, все кроме дерева. Бросают в огонь свои тряпки и розовые заколки-бабочки, зеленую краску, содранную с лавок.
И, хоть ночь на дворе, сидят целыми семьями у пластмассовых столов. Один играет на расческе. Принесли с паркинга, из «Макдональдса» громадные количества неорганической жратвы в домиках-коробках хэппи-мил. Перед ними на газете разодранные жареные цыплята, множество стопочек водки, колбаса, кремовые пирожные, громадные количества в большом беспорядке и грязи. А за каждым столом самая главная — старая мать-цыганка, мать рода, с седым начесом и с такими большими золотыми серьгами, что аж уши вытягиваются. С никотиновой кожей. Рядом всегда сидит Старый Толстый Цыган, позванивающий мобильником и позвякивающий ключиками от автомобиля, потому что во всей этой грязи есть какая-то роскошь, богатство, стоят запаркованные самые новые модели автомобилей, родственные тому мерсу наших старых цыган с паркинга, какие-то бумера, золотые, серебряные и красные с открывающейся крышей. Рядом со Старым Цыганом с ключиками всегда сидит женщина средних лет и кормит грудью одного, двух, а то и трех маленьких сладеньких цыганяток с черными головками. И, кормя, не перестает с кем-то разговаривать — ашрабахрамаш котлета циту чауческу — по сотовому.
Дальше помоложе, совсем почти дитя, но уже с золотыми зубами, в платочке с люрексом, тоже кормит цыганенка детской своей грудью, а рядом с ней с набриолиненными волосами всегда-превсегда сидит Прекрасный Половозрелый Цыган! Бугай. Играет на расческе, пьет водку, скалит зубы. За другим столиком его копия рвет меха на гармошке. Потом масса детей в колясках новейшей модели, розовых, из «Hello Kitty». И все это в луже, играющей бензиновыми цветами радуги, в кислотном дожде, а на краю леска, по щиколотку в воде, цыганский ангел играет на скрипке.
Вдруг одна Старая Цыганка замечает меня и приглашает, а другие радуются, как дети, что кто-то нормальный к ним пришел. Видимо, здесь их обходят по кривой. А я все расчитываю, как бы оказаться поближе к моему Дезидеру. Ох, и угостила бы я тебя любистоком[133], прекрасный мой, любчика бы тебе дала, а эти очи черные покорили меня, что так пялишься, околдовать хочешь? Покажи руку, я погадаю тебе, о, большие чувства придут к тебе этой ночью, так что поторопись, а то ночь уже кончается… О, ашрабахрамаш! о, котлета! «Питу, питу чауческу…» — бормочу я цыгану, вытягиваю руку и обнимаю его. Ощущаю запах потного, молодого и немытого тела, ой, тела, пробивающийся через дезодоранты «Чауческу» производства двух бедных румын, говорящих по-польски. А с другого боку от меня молодая цыганка с ребенком, вытаращилась угрюмо из-под фиолетовых ресниц.
Запускаю руку в штаны Дезидера сзади и закрываю глаза. Цыганка хватает кусок серой курицы или цыпленка, хватает котлету.
Я целую цыгана, моего цыганенка, моего грязного зверька, в шею, худую, грязную. Цыганка замахивается на меня сырым серым мясом.
Я целую цыгана в губы, пахнущие табаком, переплетаемся с ним языками. Курица мокрой тряпкой шлепается мне на лицо.
Я шепчу цыгану на ушко: «Пошли на озеро». А эта как мокрой тряпкой охаживает меня по шее:
— Ах ты, качу пу цып тебе, лип тебе котлета, ашрабахрамаш котлета, чауческу и батонеску, будет мне здесь еще устраивать борделеску, польская суческу! Мы-то думали, она к нам из европейской какой-нибудь организации, «Клён-Явор» типа, которые цыганам помогают, а она, себе на уме, из «Газеты Выборчей» — репортаж о нас делает!
И теперь я стала яблоком раздора для всей семьи: толстые мужики с томбаковыми печатками и томбаковыми зубами на стороне цыгана и автоматически на моей, на стороне нашего счастья, а цыганки с начесами и с ключами от автомобилей — на стороне патриархально-матриархальных семейных ценностей, то есть никакое не батонеску, а Дезидер бессовестно изменяет жене при детях. И тут мой Дезидер достает пружинный нож, сталь которого отражается в его глазах.
Мой прекрасный Дезидер выиграл, и мы удаляемся от обильного стола в направлении озера, одного из бесконечного множества озер на земле сувальской. Он обнимает меня, и я уже знаю, что циклон из Скандинавии ушел в синюю даль. Орут в честь нашего счастья сверчки, квакают лягушки, вылеченная чайка парит над нашими головами, на паркинге мир, единение и братание… А вокруг озера танцуют голые нимфы, мы снимаем их на мобильник, но мобильник выскальзывает из моей руки в воду вместе с табличкой «Margot», которая плюхается в прибрежный песок, а мы целуемся. Камера наезжает, видны два лица — мужчины и женщины, на фоне озера, потому что нет рас, любовь соединяет все, лица увеличиваются, музыка лягушек и сверчков звучит патетически, дальнобойщики где-то далеко хлопают в ладоши. Какой-то цыганский ребенок в рубашонке с надписью «Hugo Boss» прибежал за нами, я глажу его, а Дезидер гонит, чтобы уходил, целует меня, и тогда появляется надпись: