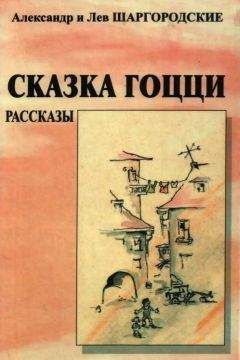И встречали, как с войны.
Бабки в очередях были опаснее «Першинг-2» — их удары точно ложились в цель…
Папа тащил полные сетки и мы приветственно махали ему из окон, как солдату, вернувшемуся с фронта с победой.
Постукивая палочкой, он входил в квартиру и выкладывал свою добычу.
— Ну, что ты там опять достал? — говорила мама…
И я вижу, как полковник, — почему-то я был уверен, что это полковник, — садится за мой письменный стол, и рыгает, и открывает ящики, и достает оттуда мои рассказы, и читает — и глаза его наливаются кровью…
Я решил оставить копии моих рассказов полковнику. Зачем ему ждать, когда они будут напечатаны на Западе. Пусть читает сразу.
И он читает. Его мелкокалиберные красные глазки начинают лезть на плоский, как полигон, лоб.
Цвет его лица меняется — багровый, зеленый, бурый, потом малиновый, и, наконец, он становится синим! Как унитаз…
— Надо было все-таки их всех посадить, — вздыхает синий полковник и с интересом читает дальше, потому что дальше есть и про него. И он вдруг хихикает. И хохочет. И визжит. И топает ногами. И сквозь смех повторяет:
— Нет, зря я его все-таки не посадил.
И вся полковничья семья смотрит на него в тревоге и беспокойстве, поскольку они видели многое, но никогда — синего смеющегося полковника.
А потом он вдруг проходит в гостиную и растягивается на диване, где папа покуривал «Казбек», читал Фейхтвангера, и смотрел на часы Финляндского вокзала.
Полковник храпит на диване, опять рыгает и проходит на кухню, где мама готовила сырники и пела себе под нос.
Синий полковник гуляет по нашей квартире…
И там, где пахло маленьким сыном, «Казбеком», театральными афишами и сырниками, которые не купишь даже в Париже — пахнет полковником и его женой!..
От этого видения меня передергивало даже в Нью-Йорке, даже в Лондоне.
— 243-5296!
Как мне хотелось набрать этот номер! Будто произнести любимое имя…
Или даже несколько любимых имен. Как много говорили эти цифры, и именно в этом порядке: 2-4-3-5-2-9-6…
Какой-то дьявол тянул меня в телефонные будки Европы и Америки… Цифры были те же. Порядок-тот же. И лишь голос, который ответит, будет другим…
Что я скажу этому голосу?
— Здравия желаю, товарищ полковник, — скажу я, — как вам нравится наша квартира? Как вам лежится на папином диване и как сидится на унитазе?..
Или я скажу:
— Не прислать ли вам вызов, товарищ полковник? У нас тут такая нехватка полковников. Махнете в Ливан и будет вас там двое — вы и Каддафи…
И однажды, когда я шел по Елисейским полям, которые, как утверждают, самая красивая улица в мире, даже красивее Невского, и садилось солнце, и люди спускались мне навстречу, от Триумфальной арки, и начались сумерки, неповторимые сумерки, когда Париж становится похожим на сирень — я незаметно для себя вошел в стеклянную будку, хранившую еще тепло дня, и набрал номер.
Там, далеко, в прошлой жизни, зазвонил телефон.
Ему часто снился один и тот же сон.
На черной гондоле он плывет к Дворцу Дожей, чтобы просить политическое убежище. По зеленой воде всю ночь он плывет вдоль Гран Канале, мимо Ка д’Оро и Ка Резоннико, где жили когда-то знатные венецианцы, те самые, из которых выбирали дожей, мимо дома Гольдони, который не был дожем, но в пьесах которого играла его мама, мимо Гритти Палас Отель, в красных стенах которого живал Хемингуэй и где он тоже сможет жить, если ему предоставят это самое убежище.
Он снимет тогда тот номер, где писал и пил Хэм, будет перечитывать «За рекой в тени деревьев», смотреть на лагуну, и официанты в белых мундирах с витыми золотыми погонами, словно адмиралы флота, будут обслуживать его.
А из дворца напротив выйдет Мирандолина, молодая, похожая на его маму, и будет полоскать белье и звонко смеяться.
И он поможет ей нести корзину…
Так плыл он ночной Венецией, и концерт для гобоя с оркестром звучал в его сердце.
Уже с лагуны он видел Антонио Вивальди, который сбегал по белым ступеням церкви Санта Мария делла Пиета, где он писал этот самый концерт, приветственно махал ему, приглашая пристать и, сложив тонкие ладони, кричал:
— Чао, Антонио, — кричал ему Вивальди.
Потому что его, как и блестящего маэстро, звали Антонио, естественно, на итальянский манер.
Антон Гоц звали его.
— Буонджорно, Антонио, — улыбался Вивальди.
— Буонджорно, маэстро, — отвечал Антон Гоц.
— Не гобой ли у тебя там в футляре? — поинтересовался Вивальди.
— Гобой, маэстро, — скромно отвечал Гоц.
— Не сыграешь ли нам что-либо из Вивальди? — говорил маэстро.
Гондола покачивалась.
Гоц брал футляр, доставал из него инструмент, прикладывал к губам и начинал играть концерт для гобоя с оркестром.
Откуда каждый раз брался оркестр — он объяснить не мог.
Эти знакомые надоевшие морды появлялись прямо из лагуны, откуда-то из-за острова Джудекка, верхом на пюпитрах, а мерзавец Вайнштейн плыл на своей дирижерской палочке и дирижировал своим толстым, корявым, как лопнувшая сарделька, пальцем.
Эта сарделька не дирижировала, а как бы грозила Антону, и смычки грозили, и даже старый контрабас.
Он не мог уплыть от коллектива даже во сне. Даже когда играл соло — они не исчезали, хотя были совершенно не нужны.
И лишь когда он прятал гобой, весь оркестр синхронно тонул на рейде Сан-Марко, и только палочка Вайнштейна мерно покачивалась на воде.
— Неужели я написал такую божественную музыку? — вытирал слезы Вивальди.
— Вы, маэстро, вы! Может, хотите что-нибудь из «Времен года»?
И маэстро всегда просил одно и то же.
— Пожалуйста, «Весну», - говорил он и садился на ступеньки.
И Гоц начинал играть «Примаверу».
Вивальди вытирал кружевным манжетом легкие слезы.
Все, что написал старый маэстро для гобоя, исполнял ему Гоц.
И каждый раз после этого Вивальди приглашал его в свой оркестр, в церковь Санта Мария делла Пиета.
— Ты будешь концертмейстером, Антонио, — обещал он ему. — Скузи, — извинялся Гоц, — не могу.
— Перке? — удивлялся маэстро.
— Это невозможно, — разводил руками Гоц.
— Ты получишь тысячу дукатов, — обещал Вивальди.
— Дело не в зарплате, — отвечал он.
— Ты можешь стать прокуратором, — продолжал Вивальди, — даже дожем. Никто в венецианской республике не играет так, как ты, и во всей Италии нет музыканта подобного тебе.
— Что толку, — говорил Гоц, — ведь я живу в Советском Союзе.
По всему виду Вивальди было ясно, что он никогда не слышал об этой стране, но каждый раз после этого с него почему-то сползал парик, он бросался наверх, на кампаниле, и начинал судорожно раскачивать колокол, как это делали в старину, когда на Венецию двигалась турецкая армада… И вот под эту музыку, уже в десяти гребках от Дворца Дожей, где он должен был просить убежище, Гоц всегда просыпался.
«Концерт Вивальди для колокола с оркестром» — называл он ее…
Этот сон снился ему всегда перед поездками за рубеж, причем только в капиталистические страны.
Когда ж они ехали в Болгарию или там в ГДР — ему не снилось ничего. Однажды, перед Прагой, во сне он увидел танк. Он сидел на стволе пушки и снова просил убежище.
Тогда он проснулся в поту…
Гондола волновала его. Потому что реализовать свой сон он не мог — не в смысле встречи с Вивальди, а в смысле убежища. Останься он — и никогда больше не увидел бы он Ирину. А зачем ему нужна была свобода без любви?..
Он не мог ее бросить — ни когда был в Амстердаме, ни в Мельбурне, ни в Севилье.
Но когда вернулся из Токио, то узнал, что она бросила его. Она уехала с Бергером в Израиль.
— Неужели ты не могла оставить меня до Японии? — только проговорил он. А что еще можно было сказать?..
Ему было так плохо, что даже Вивальди не мог он играть.
И в следующую поездку решил остаться. Вместе с гобоем — больше никого у него не было во всем этом мире..
Маршрут их турне был продуман как бы специально. Три звезды сияли на его пути — Париж, Рим, Венеция.
В каком бы из этих городов вы не остались?
Гоц остался бы во всех трех.
Но он начал с французской столицы — там начались гастроли.
В первый же вечер весь Париж рукоплескал ему. Потому что в зале был «весь Париж».
На банкете были устрицы. Женщины в мехах. Брат испанского короля. Какая-то дама его поцеловала, говорили, жена министра. Потом спорили, какого. Его называли гениальным. Паганини гобоя. Вундеркиндом, хотя ему было под сорок. Он плыл в духах Ив Сен-Лоран. И, наконец, в голову ударило французское шампанское.
И тут же захотелось убежища, просить убежища, но он не знал, у кого. Жена министра куда-то исчезла, их импресарио был пьян, брат короля уехал в Испанию.