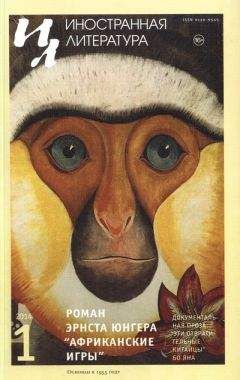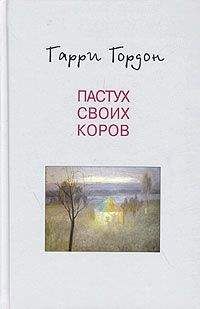Сяохуань замерла. Села. День был погожий, через окно в палату летели запахи ранней весны. Только сейчас, после стольких лет на юге, ее тоска по дому немного улеглась. А сколько времени нужно Дохэ, чтобы унять тоску, ведь у нее не осталось ни родной деревни, ни родителей, ни братьев, ни сестер? К тому же вот как лишилась она и деревни своей, и матери, и брата с сестрой. Сяохуань слушала, как Дохэ через силу рассказывает о самоубийстве людей из Сакито, о том, как жители Сиронами и других японских деревень отправились в путь, из которого никогда больше не вернулись. Дохэ все еще плохо знала язык, чтобы рассказать такую чудовищную историю, кое-где Сяохуань приходилось связывать ее слова своими догадками. И хорошо, что она говорила не все, иначе Сяохуань не смогла бы дослушать.
Вошла медсестра, Дохэ умолкла. Сяохуань увидела, как страшно трясутся ее пальцы, словно у старухи. Но сестра едва ли поняла бы рассказ Дохэ, даже прислушавшись. А в семье Чжан Цзяня давно привыкли к тому, как она говорит, и всё понимали без труда.
Сестра ушла, и Дохэ снова заговорила. Восемьсот выживших японцев были уже не похожи на людей, дети, не убитые матерями, по одному умирали от голода и холода — из осени отряд ступил в зиму Когда хунхузы на быстрых лошадях примчались и схватили девушек, те уже не могли ни бороться, ни кричать. Только старик — единственный уцелевший старик — крикнул: «Где винтовки? Хватайте винтовки, стреляйте в женщин!» Но винтовки давно потерялись…
Сяохуань чувствовала странный ком в груди: история была так страшна, так жестока, будто случилась не в этом мире. За что японцы так страстно любят смерть? Как может староста своей волей повести деревню к смерти? Как может мать решить, что детям нужно умереть?
От рассказа Дохэ сердце Сяохуань стало пустым и было пустым, пока она не зашла домой и не увидела Чжан Цзяня, который сидел за столом и пил в одиночку. Тут-то у нее и полились слезы.
Чжан Цзянь спрашивал, что случилось, но все без толку. Ятоу насмерть перепугалась, сначала уговаривала: мама, поешь, еда остыла. Но потом притихла, не смея и слова сказать. Она никогда не видела, чтоб Сяохуань так горько рыдала: обычно все остальные лили слезы из-за Сяохуань. Поплакав, Сяохуань взяла мужнину рюмку, налила в нее гаоляновой водки, выпила, тут же махнула вторую и, шмыгнув носом, пошла спать в большую комнату. А когда Чжан Цзянь забрался на кровать, рассказала ему историю Дохэ.
Выслушав, как Дохэ с больной девочкой на руках, умоляя о пощаде, убегала от матери-палачихи, Чжан Цзянь стукнул рукой о край кровати и вскрикнул: «Ай-я!» В ту ночь они почти не спали. Сидели, курили. Покурив, Чжан Цзянь вспоминал что-нибудь из рассказа, переспрашивал жену. Сяохуань повторяла, и он будто терял надежду: все и правда было так чудовищно жестоко. Кое-что переспрашивал по нескольку раз, и с каждым разом его сердце опускалось ниже и ниже, но он все равно просил повторить, будто надеялся, что не так понял.
Уснул, когда уже светало. Проснулся с тяжелой головой, на заводе в тот день не давал спуску даже за пустяковую промашку. Какой ужас пережила шестнадцатилетняя Дохэ. Фигурка Дохэ, когда ее только что вытащили из мешка, привидением маячила перед подъемным краном, перед ящичком с едой, перед шкафом в раздевалке, перед струями воды в душе. Он ненавидел родителей — нашли беду на свою голову, купили девушку за семь даянов, а он скоро с ума сойдет, думая о том, какая доля ей выпала. Если бы Дохэ сразу, как только ее купили, рассказала про свою беду, было бы куда лучше. Вытолкал бы ее вон, глазом не моргнув. А куда бы она пошла… Если б раньше узнать, что с ней случилось, он иначе бы к ней относился. А как иначе?
Глава 6
За день до того как Дохэ выписали из больницы, Чжан Цзянь уехал в Цзямусы. Здорового и бодрого до сей поры начальника Чжана вдруг разбил удар, наполовину парализованный, он лежал в доме бывшей снохи. Военврач оказалась хорошей снохой, уговорила стариков остаться у нее в Цзямусы, как-никак она терапевт. Дома Чжан Цзянь передал ее слова Сяохуань, а та со знанием дела заключила: «Отца наполовину парализовало, будет детям полунянькой, мать готовит, стирает, убирает — а в части за каждый рот пайковые полагаются. Хорошо устроилась: и денежки тебе, и рабочие руки!»
Через месяц Чжан Цзянь вернулся на завод, а тут секретарь участка с новостями: заявление в партию одобрено почти единогласно — все признали, что бригадир Чжан в работу уходит с головой, а держит себя скромно и честно. С характером Чжан Цзяню повезло: и начальство, и подчиненные видели в нем одни добродетели. Кто похитрее, смекнул, что с таким бригадиром хорошо валять дурака: сам сделает всю работу и слова не скажет. Кто позадиристей, решил, что Чжан Цзянь недотепа: как ни разыгрывай его, как ни насмехайся — словно не видит, смахнешь с него шапку — не сердится, наедешь на его велосипед, подрезая, — и тут промолчит. А руководству немногословность Чжан Цзяня казалась верной приметой серьезного и самоотверженного работника. Когда он услышал радостную весть о приеме в партию, умные верблюжьи глаза так и остались прикрыты, сказал только: «Да разве я гожусь!»
За воротами завода моросил дождь, Чжан Цзянь прыгнул на велосипед и, окрыленный, помчался вниз по улице. Встретив знакомых, вместо: «Домой?» едва не спросил: «В партию?» Прием в партию — хорошая штука, очень хорошая. Беспартийному нечего и мечтать дорасти до начальника участка. Чжан Цзянь не был карьеристом, ему просто нужны были деньги, чтобы семье лучше жилось.
Дорогой купил гаоляновой водки на шесть цзяо: шиканул, потратил на цзяо больше, чем обычно. И — была не была — заехал на свободный рынок; там уже сворачивали торговлю, из той закуски, что еще лежала на прилавке и была ему по карману, оставался только арахис в специях усян [62].
Завернул покупку в носовой платок, не заботясь, что он насквозь пропахнет специями, прыгнул на велосипед, нашел ногами педали, но тотчас же соскочил на землю. Длинные ряды свободного рынка укрывал сводчатый тростниковый навес, и в арке на той стороне, в ясных и нежных после дождя лучах закатного солнца мелькнула знакомая фигурка. В голове Чжан Цзяня сроду не водилось никаких театральных глупостей, но сейчас не смог удержаться. До чего же она хороша. Снова забрался на велосипед, покачиваясь, вырулил на улицу, поехал за ней. Ближе и ближе, вот уже поравнялся. Повернулся к ней — вздрогнула, но тут же засмеялась.
Почему же за месяц разлуки вся память стала не в счет? В его воспоминаниях она была как все, ничего особенного. Но разве видел он ее когда-нибудь среди людей? Густые черные волосы до ушей, плотная челка — сразу ясно, что она не из этих мест, чужая. Скитания оставили на ней нестираемый след — острые штрихи по контуру, а выкидыш и операция обвели этот контур тонкой мягкой линией. Ее щеки сияли, как у девочки-подростка. И белая в синюю клетку рубашка была ей к лицу, она казалась самым чистым человеком на свете, будто только что вышла из воды. Настоящая красавица. Чжан Цзянь припомнил те несколько книг, что когда-то прочел, и потому нельзя сказать, будто он не мог выразить свое восхищение словами. Но, конечно же, ничего не сказал, только спросил, куда она идет, наверное, промокла под дождем.
Дохэ ответила, что идет в школу, Ятоу забыла в школе и сапоги резиновые, и зонтик, надо забрать. А Сяохуань? Сяохуань поставила Ятоу в угол, дома ее караулит.
Была половина седьмого вечера. Дни стали длиннее, скрывшееся за горой солнце роняло последние красные лепестки в листву тополиных саженцев.
Шли рядом, молчали. Он ничего не сказал, но она поняла, что он ее провожает. От молчания сердца у обоих сразу устали. Он повернулся и посмотрел на выступающие из-под черных волос брови, глаза, переносицу, кончик носа, губы… Ему уже перевалило за тридцать, почему же только сейчас как следует на нее посмотрел, только сейчас разглядел, что она другая?
Она тоже повернулась к нему, левая щека немного саднила, словно поранившись о его взгляд.