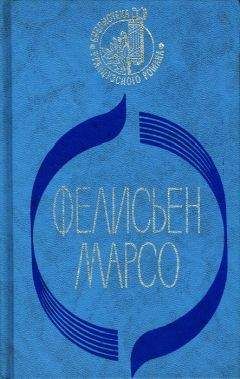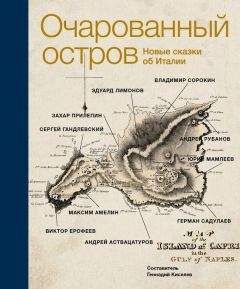И открыл портфель.
— Ну, так что, ушел, наконец, портфель? — спросила Сандра.
Андрасси посмотрел на нее удивленно.
— Разумеется, — подтвердил он.
Они сидели под оливковым деревом. Перед ними, внизу, простиралось море.
— Где он, интересно, теперь? В комнате владельца? На вилле у Мейджори Уотсон?
— Скорее всего, — сказал Андрасси. — А что? Почему ты спрашиваешь?
— Да так, — ответила она. — Просто очень забавно. Так много денег. Сколько людей они могли бы сделать счастливыми.
Она сидела, обхватив руками колени и прижавшись к ним щекой, к своим таким свежим и таким гладким коленям. Взгляд ее был устремлен в пространство.
— И никто даже не попытался украсть его.
Она посмотрела на Андрасси. У него был рассеянный вид.
— О чем ты думаешь?
— Ни о чем, — сказал он. — Я смотрел на море.
— А ты не мог попросить немного?
Он повернулся к ней.
— Немного этих денег, — добавила она.
— На каком основании?
Рамполло вошел в бакалейный магазин. Он купил вина, сыру.
— Какой самый лучший?
И он расплатился. Бледно-розовым банкнотом, совсем новеньким банкнотом, который хрустел у него между пальцев.
— Это невероятно, ты что, делаешь их? — спросил бакалейщик.
— О! Дуглас… — сказала Мейджори.
Они дошли почти до самой виллы Сатриано. Море. Оливковые деревья Мейджори уже не выглядела уверенной в себе женщиной. Ее поднятое к Форстетнеру лицо выражало внутреннюю напряженность и беспокойство.
— Дуглас! Вы бы оказали мне огромную услугу.
Форстетнер ответил с яростью:
— Таких услуг не оказывают.
— Мне нужны эти деньги.
— Всем нужны деньги.
— Мне они нужны, чтобы жить, Дуглас. Чтобы жить!
Она прокричала это. Форстетнер остановился.
— Если вы не дадите мне этих денег, я покончу с собой. Сейчас же.
— Покончите с собой?
Форстетнер пожал плечами, или, точнее, приподнял в свойственной ему манере только одно правое плечо.
— Покончите с собой? Так просто с собой не кончают.
— У меня больше ничего нет, — сказала она. — Больше ни одной лиры.
— Напишите своим друзьям.
— Каким друзьям?
— Своим друзьям в Нью-Йорке.
— Я никого не знаю в Нью-Йорке.
Потом очень быстро:
— Дуглас, о! Я сейчас вам все расскажу… Дуглас, я никого не знаю в Нью-Йорке. Я никогда не жила в Нью — Йорке. Я жила в Боулдере.
— В Боулдере?
Форстетнер от неожиданности даже вскрикнул. И ошарашенно взглянул на Мейджори.
— В Боулдере? А где он находится, этот Боулдер?
— В Скалистых горах.
— И что вы хотите, чтобы я делал в этих ваших Скалистых горах?
Его лицо перекосилось от ярости и разочарования. Она смотрела на него, ничего не понимая. Они остановились и стояли друг против друга.
— Я туда не вернусь, — сказала она.
И другим тоном:
— Дуглас, вы всегда были так добры ко мне!
Он хрюкнул, уставившись на нее своими маленькими серыми глазками.
— Я знала это, — проговорила она. — Я знала, что, когда кончатся деньги, я покончу с собой. Я так решила. И у меня нет страха. Но теперь я нашла Станни. Дуглас, попытайтесь понять. Я нашла Станни. У меня никогда не было Станни. А теперь он был у меня, был всего несколько дней. Несколько дней, Дуглас. Это очень мало. Я не хочу его потерять… Не сразу… Дуглас, дайте мне еще несколько дней. Только пятьдесят тысяч лир. Я буду очень экономна. Я буду тратить самый минимум, не больше. Я не буду есть. Но мне нужно, мне нужно еще несколько дней. Дуглас, я умоляю вас! Вы всегда были так добры! Ну что вам стоит?
Она плакала. Все ее маленькое лицо сморщилось. И она дрожала. Дрожала под своими черными очками, под своей желтой шляпой.
— У вас столько денег. Если бы владелец дачи запросил с вас на пятьдесят тысяч лир больше…
— Нет! — злобно отрезал Форстетнер.
— Вы могли бы занять вашу виллу сейчас же. А мне оставили бы маленькую комнатку. Дуглас! Это невозможно… Ну самую крошечку счастья… Я сделаю все, что вы захотите.
Форстетнер с ненавистью смотрел на нее.
— Спасибо, — сказал он. — У меня уже не тот возраст.
Он поставил ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей к вилле. И внезапно обернулся.
— О! — воскликнул он. — Вы!
Лицо его задергалось, рот раскрылся, и кулачок его трясся, как у разъяренной обезьяны.
Каждый день в пять часов, когда отплывает пароход, в порту наступает некоторое оживление. Оно начинается возле ряда домов, прилегающих к порту. Сверху, с террас или горных тропинок можно увидеть, как люди сразу по нескольку отделяются от них, похожие на зернышки из лимона. Именно так. Возникает ощущение, что фасады выдавливают их из своих дверей. Красная коробка фуникулера спускается между виноградниками. Другая красная коробка поднимается. Они встречаются внутри туннеля, и кажется, будто они там сталкиваются друг с другом, а потом каждая отправляется обратно. Такси спускаются по извилистой дороге, как бы оставляя росчерки на плитах порта. Там и сям группы праздношатающихся, любопытных, карабинер. Беспокойные пассажиры уже идут к пароходу. На ручной тележке везут почту в джутовых мешках. Затем внезапно появляются клубы дыма над «Маринеллой» или над другой какой-нибудь такой же глупой штуковиной, и начинают осквернять воздух: за четверть часа до отхода на пароходе включают репродуктор.
Это довольно большой пароход. Белый. Но ряды скамеек на верхней палубе делают его похожим, скорее, на ныне покойные речные трамвайчики Сены, чем на покачивающие своим рангоутом пароходы дальнего плавания. Оживление постепенно распространяется на мол. Пассажиры с чемоданами и пассажиры с носильщиками. Даже сверху видно, как они озабочены предстоящим путешествием, как волнуются за свой багаж; они уже распрощались с беспечной жизнью острова. У них даже походка изменилась. Среди них есть люди привычные, у которых только куртка под мышкой или портфель в руке. Они направляются лишь в Неаполь. Прибывает такси и пробивается сквозь толпу с мычанием, словно корова, измученная слепнями. В воде рядом с пароходом качается несколько лодок. По стенке дамбы бежит маленький мальчик. Кто-то замечает его, показывает на него пальцем, возможно, выражает беспокойство или возмущается. Вдруг раздается сирена. А ну, поживей! Движение, только что вялое, убыстряется. От домов отскакивает еще один человек, спешит, роняет что-то, поднимает. Два моряка отбрасывают на дамбу сходни, бросают резко, как состарившуюся любовницу. Пароход делает почти неуловимое движение, он еще неподвижный, но уже находится в активном состоянии, как наседка, которая вроде бы не шевелится, но по ее виду можно догадаться, что животом и лапами она ощупывает свои яйца.
Пальмиро твердым шагом направляется к бару. Помимо рядов скамеек на пароходе имеется еще довольно просторный салон с баром.
— Мне кофе, — говорит он.
Наверху стоят два официанта в белых куртках. Круглая черная дыра репродуктора теперь извергает увертюру из «Свадьбы Фигаро». Сидя возле окна, госпожа Пальмиро смотрит на мужа. Раньше он никогда не стал бы пить кофе. Плавание на пароходе приводило его в ужас. Он забивался поглубже в кресло, подперев подбородок руками, и сидел, не шевелясь, зеленый от снедавшей его тоски. И перед пароходом за обедом ничего не ел, а только глотал пилюли. Вот и сегодня, перед выходом из гостиницы, госпожа Пальмиро предложила ему:
— Море сегодня неспокойное. Выпей таблетку «Вазано».
Он только засмеялся. Теперь он часто смеялся. После той истории.
Пальмиро выпил кофе и вернулся к жене.
— У тебя остался кофе вокруг рта, — сказала она.
У нее это вырвалось нечаянно, и она мысленно выругала себя. Такие замечания сердили мужа.
— Ты все время только и выискиваешь что-нибудь, чтобы унизить меня, — говорил он.
Раньше говорил. Но теперь все изменилось. Он вынул носовой платок и вытер губы. Закурил сигарету. Сигарета на борту парохода, он, который… Госпожа Пальмиро вздрогнула.
— Пошли, выйдем на палубу, — сказал Пальмиро.
И они вышли на палубу. Пальмиро снял шляпу, и ветер, как любящая, но шаловливая женщина, стал трепать его реденькие волосы. Пароход разгонял под собой воду. Вдали оставался порт с его домиками, с выстроившимися в ряд рыбацкими домиками, бедными, старыми, обветшалыми, залатанными на скорую руку, как какие — нибудь допотопные повозки, досками, палками, подпорками, отчего стены их перекосились, изогнулись, приобрели какие-то человеческие черты, какую-то сутулость, напряглись, уперлись, как бы пытаясь устоять, не сползти в море и продолжать демонстрировать плывущим на пароходе свои серые фасады, среди которых нет-нет, да и мелькнет какой-нибудь мощный маслянисто-розовый, ярко-красный или охряный мазок.
— Посмотри, — сказал Пальмиро.