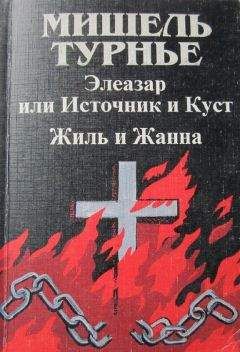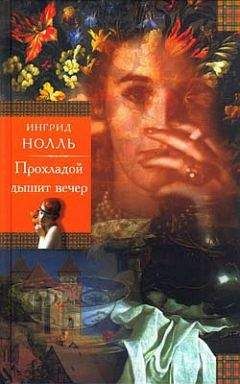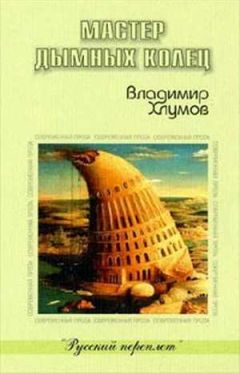Он сел за стол против Завенягина и взял телефонную трубку.
– Завенягина мне. Это Орджоникидзе.
– Слушаю вас, Григорий Константинович.
– Это директор «Гипромеза» Завенягин? Объявляю вам выговор за плохую работу. С опубликованием в печати.
– Я на этой должности всего две недели, не могу отвечать за прошлое. Лучше сразу снимайте.
– Какой хитрый! Сразу снимайте! А работать кто будет? Нет, Завенягин, лёгкой жизни не ищи, не будет. А выговор используй на пользу делу. Всем говори: это выговор не мне, это Орджоникидзе сделал выговор всей ленинградской партийной организации, и все должны помогать тебе. Ты понял?
– Понял, Григорий Константинович.
– То-то! А обиделся, нет? – спросил Орджоникидзе, отложив телефон.
– Ещё бы. Выговор с опубликованием!
– Но и о том, что выговор с тебя снят, тоже было опубликовано.
– Так-то оно так. Но что выговор мне объявили, все читали. А что сняли, как-то незаметно прошло. Нет, я не в обиде. Хотя строги вы были ко мне, как ни к кому другому.
– Мы строги к тем, в кого верим. От кого много ждём. Я тебя к большому делу готовил, потому и испытывал. Как металл – на сжатие, на разрыв.
– И бросали из огня да в полыми. Из Ленинграда в Москву. Из Москвы в Каменское, где из старого завода нужно было сделать новый, да какой! Всего за год!
– А что? И сделал! Зато и стал таким, что тебе можно было доверить любое дело.
– Например, Магнитку.
– Да, Магнитку. Знал, что вытянешь. Поэтому позвонил и прямо спросил: согласен? И ты ответил: согласен.
– А вы засмеялись и кому-то сказали: «Конечно, согласен! Вот бандит!» Кому вы это сказали?
– Сталину. А кто же ты? Конечно, бандит. Ему Магнитку, в тридцать два года. А он: согласен. Хоть бы для приличия поколебался, посомневался, справлюсь, не справлюсь. Я тогда ещё подумал: кем же он будет в сорок лет?
– Начальником Норильского комбината и Норильлага…
Редкой красоты новогодняя ночь опустилась на притихший Норильск. Присмирели снега. Густая куржа, как праздничная мишура, оторочила фермы, провода и столбы. И огни на Медвежке сверкали и переливались, как чистые низкие звезды.
В управлении царила праздничная суета. В самой просторной комнате установили ёлку, привезённую с озера Лама. За неимением игрушек, обрядили её самодельными гирляндами, завёрнутыми в фольгу конфетами. Этим под общим руководством Саши занимались те немногие из жён и дочерей работников управления, которые в то время жили в Норильске. Общее руководство Саши заключалось лишь в том, что он держал дверь и поторапливал с убранством ёлки.
– Всё? – наконец спросил он. – Пускаю!
Дверь открылась, комната заполнилась празднично одетыми людьми.
– Без четверти двенадцать! – объявил Воронцов, выходя на середину комнаты. – Пора наполнить бокалы!
Появилось шампанское, полилось в бокалы. Шампанское было спиртом, разбавленным консервированным компотом, а бокалы гранеными стаканами и кружками.
– Авраамий Павлович, тост! – обратился Воронцов к Завенягину. Его поддержали:
– Тост! Тост!
– И не надоело вам меня на совещаниях слушать?
– На совещаниях вы ругаетесь, – объяснил Васин. – Даже интересно, как вы на этот раз обойдётесь без ругани.
– А нужно обойтись?
– Новый год!
– Тогда обойдусь… Дорогие мои товарищи, друзья! Не очень часто календарные праздники совпадают с праздниками души. Сегодня как раз такой случай. Я человек не суеверный, но издавна привык: когда на душе слишком легко, беспричинно празднично – жди какой-нибудь неприятности…
– Авраамий Павлович, полно вам! – запротестовали в комнате. – Какие неприятности, о чём вы!
– Я сейчас загадал. Если за те несколько минут, что остались до Нового года, ничего не произойдёт… ну, звонка не будет, что снегоочиститель опять застрял, или ещё чего… в общем, если ничего не случится, то наступающий год будет для нас очень удачным, очень хорошим годом! Да, сегодня празднично на душе. Мы имеем право на этот праздник. Мы очень хорошо поработали. Вспомните, что здесь было ещё два года назад. И что теперь? Даёт металл Малый металлургический завод. Заложен Большой металлургический завод. Действует первый в мировой практике рудник открытых работ. Первый и единственный в таких широтах. А сколько мы слышали предупреждений, запретов и даже обвинений во вредительстве? Здесь, в Заполярье, мы сумели создать плацдарм для освоения несметных богатств Таймыра. И хотя у нас ещё много проблем и работа впереди предстоит огромная, сегодня мы можем сказать: сделан прорыв в будущее. Комбинат, который казался фантастикой ещё несколько лет назад, уже не фантастика, а реальность. За нашу мечту, за её осуществление я и поднимаю тост. – Завенягин обернулся к Саше. – Никаких звонков? Телеграмм?
– Никаких, Авраамий Павлович! И снегоочиститель не застрял.
– Сколько осталось?
– Минута.
– Уже не застрянет… Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом!..
Тишина. В ней раздаются, словно кремлевские куранты, удары железом по рельсу: один, второй, третий… двенадцатый. Загремели стаканы и кружки, из радиолы зазвучал вальс.
Саша отозвал Завенягина в сторону.
– Извините, Авраамий Павлович. К вам человек.
– Какой человек?
– Из Москвы.
Подвёл приезжего в форме НКВД.
– У меня для вас пакет из наркомата. Распишитесь. Приказано передать на словах: готовьте преемника.
– Когда?
– Скоро. Вас известят. С Новым годом!..
– Что случилось, Авраамий Павлович? – спросил Саша.
– Меня отзывают. В Москву.
– Но это же здорово! Значит, вам доверяют!
– Нет, это значит совсем другое.
– Что?
– Будет война. Забудь об этом. Танцуй. Пусть все танцуют. Может быть, это наш последний праздник на многие годы.
Это был их последний праздник на многие-многие годы.
Звучит вальс. Появляется Маша. Всё такая же юная. Танцует с Мешковым.
Летчик Георгий Мешков. С мая 1942 года вместе с лётчиком Веребрюсовым доставлял норильский никель на танковые заводы Урала. Первой партии никеля хватило на броню для двадцати пяти танков. Погиб в воздушном бою под Прагой в 1945 году…
Маша оставляет Мешкова, танцует с Потаповым.
Потапов Михаил Георгиевич. В 1944 году по ходатайству Завенягина был освобожден без права выезда из Норильска. В 1945 году получил разрешение выехать в Красноярск, здесь был арестован и приговорён к бессрочной ссылке в Красноярском крае. Умер в 1954 году в Хакассии.
Маша танцует с Воронцовым.
Александр Емельянович Воронцов. До 1956 года работал с Завенягиным. Умер в 1984 году в Москве.
Воронцов уступает Машу Шаройко.
Александр Емельянович Шаройко, главный инженер проекта Норильского комбината. Умер в 1951 году в самолёте, летевшем из Норильска на Кольский полуостров, в город Мончегорск, на комбинат «Североникель».
Маша оставляет Шаройко, танцует с Завенягинам.
Авраамий Павлович Завенягин, генерал-лейтенант госбезопасности. Дважды Герой Социалистического труда. Во время войны руководил оборонным строительством в Сибири и на Дальнем Востоке. Позже с академиком Курчатовым возглавлял работы по созданию атомного оружия, был заместителем Председателя Совета Министров. Умер от сердечного приступа 31 декабря 1956 года. Похоронен на Красной площади у кремлевской стены. За два года до смерти он написал: «Всю жизнь меня привлекали плодовые деревья, сад, его рост, созревание, тайны жизни и рождения яблока, ягоды. Но почти никогда мне не удавалось заняться этим увлекательным и благородным делом».
Вальс стихает. Перед ёлкой выстраиваются малыши из детского хора. Выдвигается рояль. За него садится Надежда Марковна, в том же старомодном концертном платье, берет первый аккорд.
Из края в край вперёд иду
И мой сурок со мною.
Под вечер кров себе найду
И мой сурок со мною.
Кусочки хлеба нам дарят
И мой сурок со мною.
И вот я сыт, и вот я рад
И мой сурок со мною…
Премьера спекталя «Особое назначение. Завенягин в Норильске» состоялась зимой в новом здании театра. Нам повезло: не пришлось изворачиваться, выдумывать «сереньких». Времена менялись с феерической быстротой, жеманный плюрализм мнений превратился в гласность. И хотя свободой слова гласность еще не стала, цензура оказалась полностью дезориентированной, не знающей, что уже можно, а чего еще нельзя. Мы рискнули: нахально вывели на сцену никаких не «сереньких», а настоящих зэков – в драных ушанках, в клифтах с номерами. И сошло. Сошло! Впервые в истории советского театра на сцене появился сталинский лагерь.
Норильский театр очень долго строили. Сооружение получилось внушительное, напоминающее горнолыжный трамплин крутым скатом кровли, скрывающем театральную машинерию. Наружная отделка – дикий, грубо отесанный камень, а внутри – мрамор, дорогие сорта дерева, хрустальные люстры и уютный зрительный зал мест на семьсот. Это нужно было видеть, как из замяти пурги или густого морозного тумана появляются безликие фигуры, упакованные в шубы, меховые шапки и шарфы до глаз, поднимаются по широкой каменной лестнице и в холле преображаются: мужчины в парадных костюмах, свежие с мороза прелестные женщины, обязательно в платьях, в чулочках, в туфельках на высоком каблуке. Никаких сапог, никаких джинсов и брюк – считается неприличным.